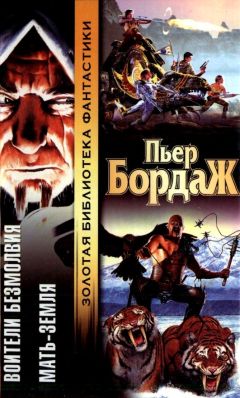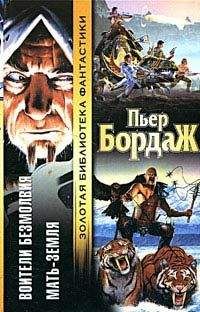— Если когда-либо попадешь на Сиракузу, — прошептал старик, — увидишь тысячи их, не менее прекрасных, а раскраску ты даже не можешь себе вообразить!
Маранас резко вздрогнул, едва не выронил блюдо, ловко подхватил покачнувшиеся графин и стаканы. Способность старика читать его мысли и желания с той же легкостью, словно в светокниге, каждый раз поражала его. Даже пугала, хотя он уже посещал старика целый стандартный год. Даже не глянув на юного пруджа, старик, чьи глаза цвета зеленой воды смотрели вдаль, продолжил:
— В Венисии ты увидишь гигантские исфуганские пальмины, высаженные вдоль авеню и бульваров, с их прозрачными листьями, наливающимися феерическим светом.
Его лицо и голос были пропитаны печалью.
— Ты узнаешь, как приятно прогуливаться в конце второго дня, когда Солнце Сапфир покидает небо, а бриз любви становится бесконечно нежным. Здесь все говорит о сухости, об ожогах, о костре!.. Эти проклятые Три Огня оставляют место лишь булыжникам, трещинам, эргам, дюнам… Даже деревья имеют цвет и консистенцию камня!.. Но твой пустынный и печальный мир есть, в конце концов, лишь отражение моей души.
Удивленный и обескураженный Маранас поставил поднос рядом с гравигамаком. Жалобы не входили в привычки старика, который обычно относился к жизни как к вечному празднику. Этот внезапный приступ меланхолии не предвещал ничего хорошего. Юный прудж уселся прямо на лиловую траву в тени кустарника, дожидаясь возвращения улыбки на морщинистое лицо, обрамленное длинными белыми волосами.
Маранас с наслаждением втянул пьянящие запахи садовых цветов. Скинул тунику и улегся в траву, которая ласково коснулась его груди, живота, бедер. Продолжительная дрожь удовольствия сотрясла его от затылка до пальцев ног.
Первой реакцией визитера, сталкивающегося с растительным волшебством, резко отличавшимся от сухого и рыжего однообразия города, была реакция неверия. Старик не постеснялся в расходах, чтобы привезти из миров Центра феноменальное количество семян, растений, завязей. Два аппарата, спрятанных под толстым слоем насыпной земли среди лабиринта труб и приемников, отыскивали малейшие следы влаги, утреннюю росу, испарения, пот и превращали их в гектолитры воды, которая хранилась в подземных резервуарах, откуда поступала в фонтан, овальный бассейн, оросительные головки и в систему водоснабжения дома. Для пруджей, считавших воду роскошью, этот ее избыток был чудом, но вызывал подозрения. Старик вложил почти все свое состояние в этот уголок рая, но в одиночестве вечной ссылки это растительное изобилие было единственным способом поддерживать связь с родным миром и не имело цены.
— Что случилось, Двойная Шкура? — наконец спросил Маранас, выпрямляясь. — Ты сегодня не испытываешь радости жизни?
— Не называй меня так! — проворчал старик. — Ты же знаешь, я не люблю, когда ты называешь меня Двойной Шкурой! Уже давно на мне нет второй шкуры! Быть может, это было справедливо, когда я приехал, но теперь…
Он уже давно перестал пользоваться облеганом, который и дал ему такое прозвище. Вначале нарушение строгой этики сиракузян в манере одеваться его смущало. Но теперь он превосходно чувствовал себя в просторных пруджских туниках. И особенно ценил ласку воздуха на обнаженной коже. Она стала приятной и необходимой частью нового образа жизни.
— А как тебя называть? — возразил Маранас. — Я не знаю твоего истинного имени! Эка важность, даже если ты хочешь скрывать свое имя, я люблю тебя, Двойная Шкура!
Подросток расхохотался, вскочил с кошачьей ловкостью и быстро поцеловал старика в губы. Потом в три прыжка очутился у расположенного ниже овального бассейна, вскочил на широкий бортик и нырнул головой вниз в теплую воду.
Старик в гамаке привстал и оперся на локоть, смотря на Маранаса. Именно такое темное обнаженное тело и повлекло за собой гибель. Юные тела сильных и нежных эфебов, едва прорвавших хрупкий панцирь детства, еще не потерявшие угловатости, вызывали в нем тиранические, неподвластные воле желания, внося хаос в его ощущения и разум. Вначале ему надо было коснуться их, приласкать, ощутить кончиками пальцев или ладонями шелковистую кожу, под которой играли молодые соки. Ему надо было добраться до этих капризных насмешливых губ, погрузить свой язык в рот, наполненный жизнью, чтобы извлечь весь его медовый сок.
Из-за этих тел он предал тысячелетние традиции своих учителей. Он еще продолжал жить, но какой ценой! Каждый раз, вспоминая свой процесс, он ощущал то же унижение, тот же болезненный ожог, как в тот момент, когда высший суд крейцианской инквизиции публично разжаловал его в раскатта и приговорил к вечной ссылке на Красную Точку, где живут все преступники и подпольные торговцы миров Центра. Он, один из пяти великих смелла, был изгнан из конгрегации, как последний из мерзавцев. Строгие и презрительные взгляды его бывших коллег до сих пор жгли ему лицо и затылок. Теперь он проводил все дни в ленивом безделье в своем саду, пил кислые фруктовые соки и занимался любовью с юными пруджами Матаны, которые за щедрую плату соглашались на все. Он постепенно утерял достоинство и волю, душа его превратилась в пустырь, обдуваемый ветрами сожалений.
Тончайший контакт с Шри Алексу окончательно прервался. Он перестал чувствовать присутствие третьего наставника, присутствие постоянное, которое слабо вибрировало, словно далекая звезда в коллапсе.
Вдруг старику захотелось в последний раз оказаться полезным, завершить жизненный путь изящным поклоном: надо было спасти дочь Шри Алексу, помешать ей угодить в ловушку, которую расставили притивы и скаиты. Хотя осознавал, что этот последний поступок не станет отпущением прежних грехов. Но он был обязан сделать хоть что-то в память о далеком сиракузском друге, ставшем жертвой его отказа от борьбы.
Сидя на корточках у бассейна, Маранас встряхивал свою рыжую шевелюру — капли с его головы летели на лиловый кустарник. Острый коготь желания вспорол нижнюю часть живота старика, и во рту его стало сухо. Невероятным усилием воли он подавил искушение в последний раз забыться в головокружительных ощущениях.
— Иди сюда, Маранас! Мне надо сообщить тебе нечто важное.
Горящий взгляд юного пруджа, удивленного властным и торжественным тоном, кинжалом вонзился в глаза старика.
— Иди, прошу тебя! Это не только важно, но и очень срочно! Старик вылез из гамака, который свернулся и превратился
в гладкий шар размером с кулак. Потом поднялся на террасу по подвесным ступеням. Маранас пожал плечами, подобрал тунику, небрежно набросил ее на плечо и присоединился к Двойной Шкуре в гостиной, просторной комнате с синими водяными занавесями, закрывавшими овальные окна и поддерживавшими прохладу и полумрак.