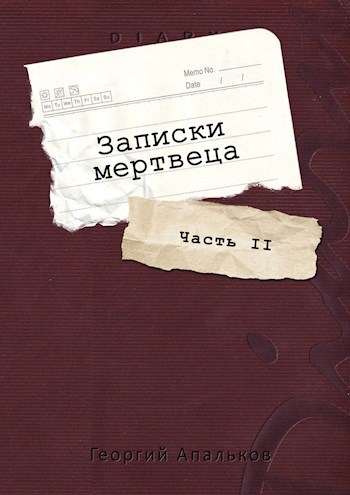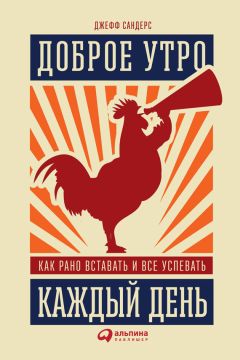в шкафу в порыве бреда, то и в комнате его не было. Я чувствовал, как растеряны Ира с её матерью, и сам пребывал в глубочайшем замешательстве. Рядом с кроватью лежал кусок белой ткани — отрезок простыни, которым по моему настоянию Леонид Николаевич сам приковал себя к постели вчерашним вечером.
— Подождите здесь, я посмотрю, — сказал я и вошёл внутрь, не имея ни малейшего понятия о том, на что я тут собираюсь посмотреть.
В шкафу его не было. Это я понял, когда резким движением открыл одну из его створок и не обнаружил внутри ничего, кроме одежды. Да и какой к чёртовой матери шкаф? Это с самого начала было бредовой мыслью. Стало быть, комната и впрямь пуста. И тогда меня посетила страшная идея: открыть окно и посмотреть вниз. Возможно, Ирин отец решил сам закончить свои мучения, выбросившись с пятого этажа. Но если так, то каким образом он, сделав это, сумел оставить окно закрытым? Ещё одна не стыкующаяся со здравым смыслом нелогичная чушь. Но тогда где он?
— Ну что там? — спросила Екатерина Дмитриевна откуда-то с той стороны дверного проёма.
— Ничего. И никого, — ответил я.
— Как это?
— Вот так.
После этих слов Ира и её мать зашли внутрь. Они так же растерянно, как и я несколько секунд назад, озирались по сторонам и не могли взять в толк, куда так бесследно и внезапно мог испариться Леонид Николаевич. Вопрос висел в воздухе ровно до того момента, пока Ира не обнаружила на прикроватной тумбе лист бумаги, сложенный пополам. Она молча взяла его в руки, развернула и пробежалась глазами по тексту. Потом — заплакала, закрыла лицо руками, а письмо передала в руки матери. Та прочитала его внимательнее и, дойдя до конца, тоже стала плакать. Но тихо: на лице её не дрогнул ни один мускул — только глаза покраснели, и из них спокойно и свободно брызнули тяжёлые и горькие слёзы. Потом бумага оказалась в моих руках, и я читал, стараясь запомнить каждое слово и каждое предложение для того, чтобы вечером этого же дня переписать всё это в свой дневник.
«Дорогие Катя, Ира и Константин. Мне сложно писать это письмо. К тому же, пишу я его левой рукой, и оттого даётся оно мне ещё тяжелее. Скоро я умру. И хорошо бы, если б на этом всё закончилось. Но, поскольку меня укусили, и поскольку я умираю именно от укуса, скоро я стану тем, кого вам лучше опасаться. Я перестану быть мужем, перестану быть папой, перестану быть… папой твоей девушки — или как там ещё это назвать. В общем — я стану одним из тех, кто ходит у нас за окном. И ничего в этом хорошего нет: уж лучше б я умер. Я не знаю, какой будет эта новая жизнь, не знаю, какой будет моя смерть, и, по-честному говоря, я всё ещё надеюсь, что не умру. Но, на самом деле, мне уже конец — это ясно как день: новый день, которого я никогда не увижу. Моё сознание спутанно, мой разум блуждает, и я чувствую себя так, словно перепил на очередном застолье и пытаюсь после него сказать всем что-то важное, но не могу. Поэтому давайте я просто перейду к этому самому «важному» и опущу все эти сопли и слюни по самому себе.
Катя. Дорогая, любимая Катя! Так много лет прошло с тех пор, как мы с тобою встретились. Но я помню всё до последней секунды. Уверен, и ты тоже. Мы с тобою прошли через многое, и много раз могли бы разойтись и продолжить наши пути по отдельности. Не буду вспоминать тут всё: ты это и так помнишь, и я это помню. Но всё равно мы с тобой дожили до этого момента: когда разлучить нас смогла только смерть. Я был с тобою дольше, чем был сам по себе, и я счастлив, что лучшая часть моей жизни прошла именно с тобой. Ты… Так много хочется сказать… Спасибо тебе за то, какая ты есть. Я тебя очень люблю. Мне даже кажется, что ты знаешь, что я хочу сказать тебе в этом письме лучше, чем это знаю я сам. Уверен, так оно и есть. Спасибо тебе за всё, дорогая моя Катенька. Береги её. Ей я ещё напишу отдельный абзац.
Ира. Когда ты родилась, я расстроился: я до последнего надеялся, что врач всё наврал, и что ты будешь мальчиком. Я понятия не имел, что делать с девочкой, но худо-бедно разобрался за все прошедшие восемнадцать лет. Ты… Я горжусь тобой — вот, что. Я рад, что ты есть, и что я приложил к этому руку. Тебя ждало большое будущее… И, хочется верить, оно тебя ещё ждёт, несмотря на всё, что творится вокруг. Будь умницей. Будь с мамой, что бы ни случилось. Я тебя очень люблю. Я очень люблю вас.
Константин. Я плохо тебя знаю. Может, оттого ты мне никогда и не нравился. Но, раз уж ты с ними, я на тебя надеюсь. И спасибо за нужные слова.
Больше не знаю, что написать. Вернее, знаю, но не могу: мысли путаются. Скоро я умру и, наверное, превращусь в одного из них. Постараюсь сохранять рассудок столько, сколько смогу. Но лучше будет, если я буду делать это где-нибудь снаружи: тут я и впрямь могу ненароком навредить вам. Поэтому пойду, прогуляюсь. Постараюсь уйти как можно дальше, поэтому — не ищите. Садитесь в машину и поезжайте, как мы и планировали. Может, и правда там… Прощайте. Любл…»
Буквы были кривыми. Строчки плясали друг с другом, но всё-таки смысл письма прочитывался с первого взгляда. Как ему удалось уйти, прошмыгнув мимо всех нас — в особенности мимо Ириной мамы, дежурившей в гостиной — ума не приложу. Но факт есть факт: он сделал лучшее, что можно было сделать в его положении. И я был рад, потому что знал: после такого мы уж точно не застрянем в этой квартире. Леонид Николаевич при жизни сделал всё, чтобы мы не покинули этих стен. Но перед смертью он буквально вытолкнул нас отсюда навстречу тому, что ждало нас за горизонтом неизвестности.
Приготовлениями к отходу мы занялись уже сильно позже полудня. С собой мы взяли только самое необходимое. Не знаю, стоит ли всё это здесь перечислять. Желания у меня такого точно нет,