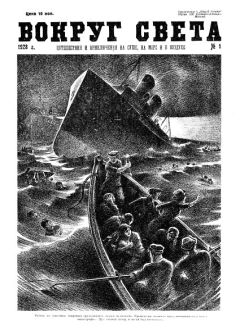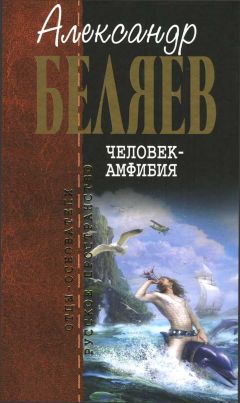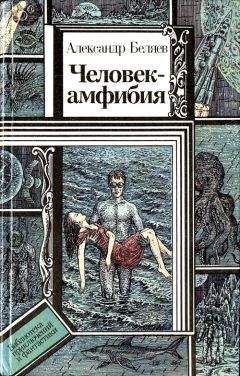Александр Беляев
Человек-амфибия
(первоначальный, журнальный вариант романа)[1]
Стояла томительно-душная январская ночь[2]. Иссиня-темное небо было покрыто звездами. Они вздрагивали, как светящиеся капли росы, готовые сорваться с высоты небесного купола и упасть на свое отражение в черном зеркале океана. Тишина ночи не нарушалась ни всплеском волны, ни скрипом снастей. Казалось, океан спал глубоким сном без сновидений…
На палубе шхуны лежали полуголые ловцы жемчуга. Истомленные тяжелой работой и южным аргентинским солнцем, они не спали так крепко, как океан: ворочались, тяжело вздыхали, вскрикивали в тяжелой дремоте. Быть может, они видели во сне акул, нередко преследующих ловцов жемчуга. В эти жаркие, безветренные дни люди настолько переутомлялись, что даже не в силах были, по окончании лова, поднять на палубу лодки. Впрочем, в этом и не было большой необходимости: ничто не предвещало перемены погоды. И лодки оставлялись на ночь на воде, привязанные к якорной цепи. В эту ночь на вахте стоял индеец Бальтазар. У него, как у многих индейцев, было два имени: для сношения с иностранцами он был «Бальтазар». Настоящее его имя знали только друзья и родные.
Бальтазар был ближайшим помощником капитана, испанца Педро Зурита — владельца шхуны «Медуза».
В прошлом Бальтазар был известным ловцом жемчуга; он мог пробыть под водою девяносто и даже сто секунд — вдвое больше обычного времени. Его левая нога была изуродована зубами акулы, а бок изодран якорной цепью. Состарившись, он оставил опасный и тяжелый промысел искателя жемчуга. Он имел в Буэнос-Айресе небольшую лавку и торговал жемчугом, кораллами и раковинами. Но на берегу он скучал и потому нередко отправлялся на жемчужный лов. Промышленники ценили его. Никто лучше Бальтазара не знал Ла-Платского залива, прибрежных берегов и тех мест, где водятся жемчужные раковины.
Он учил молодых ловцов всем секретам промысла: как задерживать дыхание, как отражать нападения акул, а под хорошую руку — и тому, как припрятать от хозяина редкую жемчужину.
Главное же — он умел по одному взгляду безошибочно оценивать жемчужины и быстро отбирать в пользу хозяина наилучшие.
И промышленники охотно брали его с собой, как помощника и советчика.
Бальтазар сидел на бочонке и медленно курил толстую сигару. Свет от фонаря, прикрепленного к мачте, падал на его лицо. Оно было продолговатое, не скуластое, с правильным носом и большими, красивыми глазами — лицо аракуанца[3]. Веки Бальтазара тяжело опускались и медленно поднимались. Он дремал. Но если спали его глаза, то не спали уши. Наследие предков — его уши были чутким сторожем, который предупреждал Бальтазара об опасности даже во время сна. Но теперь его ухо улавливало только вздохи и бормотание спящих. С берега тянуло запахом гниющих раковин, — их оставляли гнить, чтобы легче выбирать жемчужины. Этот запах непривычному человеку показался бы отвратительным. Но Бальтазар не без удовольствия вдыхал его расширенными ноздрями. Для него этот запах был связан со всеми впечатлениями привольной жизни морского бродяги — искателя жемчуга, волнующими опасностями и красотой океана.
Веки Бальтазара тяжело поднялись, закрылись и уже не открывались. Пепел с сигары упал, скоро выпала из ослабевших пальцев и сигара. Голова склонилась на грудь. Бальтазар уснул.
Вдруг его уши зашевелились, как у собаки. Этим движением они как будто старались разбудить его. Бальтазар еще сидел неподвижно, но его сознание уже было пробуждено каким-то звуком, доносившимся далеко с моря. Звук повторился ближе. Веки Бальтазара открылись. Казалось, кто-то трубил в рог, а потом, как будто, бодрый, молодой человеческий голос призывно крикнул на октаву вверх:
— А-à!
Музыкальный звук трубы не походил на резкое звучание пароходной сирены, а веселый возглас совсем не напоминал призывного крика утопающего. Это было что-то новое, неведомое и потому жуткое. Бальтазар поднялся и потер свою голую спину. Ему показалось, будто сразу посвежело.
Индеец подошел к борту и зорко оглядел гладь океана. Она была по-прежнему недвижна и пустынна. Ни судового фонаря, ни плеска весел или рук пловца.
Тишина.
Бальтазар толкнул ногой лежавшего на полу индейца и, когда тот поднялся, тихо сказал:
— Кричит. Это, наверно, он…
— Я не слышу, — так же тихо ответил индеец гуарона[4], привстав на коленях и прислушиваясь.
И вдруг тишина вновь была разорвана звуком трубы и криком:
— А-à!
Гуарона, услышав этот звук, пригнулся, как под ударом бича.
— Да, это, наверно, он, — сказал гуарона, лязгая от страха зубами.
Проснулись и другие ловцы. Они сползлись к освещенному фонарем месту на палубе, как бы укрываясь в лучах света от страшного наваждения ночи, и сидели, прижавшись друг к другу, как испуганные дети, напряженно прислушиваясь. Звук трубы и голос послышались еще раз вдалеке и замолкли…
— Это он…
— Морской дьявол! — шептали рыбаки.
— Мы не можем оставаться здесь больше!
— Это страшнее акулы!
— Позвать сюда хозяина!
— Дон-Педро, сюда!
Послышалось шлепанье босых ног. На палубу вышел хозяин, Педро Зурита. Он был без рубашки, в одних холщевых штанах; на широком кожаном поясе висела кобура револьвера. Зурита подошел к группе людей. Фонарь осветил его заспанное, бронзовое от загара лицо, густые, вьющиеся волосы, падавшие прядями на лоб, черные брови, приподнятые кверху усы и небольшую бородку с проседью.
— Что случилось?
Его грубоватый, спокойный голос и уверенные движения успокоили индейцев.
Они вдруг заговорили все сразу.
Бальтазар поднял руку, делая знак, чтобы они замолчали, и сказал.
— Мы слышали голос его… морского дьявола.
— Померещилось! — ответил Педро сонно, опустив голову на грудь.
— Нет, не померещилось, мы все слышали «а-à!» и звук трубы, — вновь закричали ловцы.
Бальтазар заставил их замолчать тем же движением руки и продолжал:
— Я сам слышал «а-à!». Пароход так не кричит и человек так не кричит. Только он так кричит… Надо уйти в другое место. Подальше отсюда, и еще дальше. Аракуана и гуарона не будут ловить здесь. Никто не будет. Акулу можно убить и пила-рыбу можно убить, а «морского дьявола» нож не берет. Он схватит человека и утащит на дно.