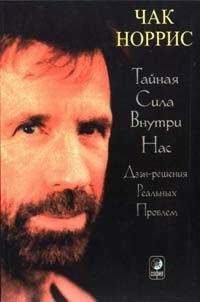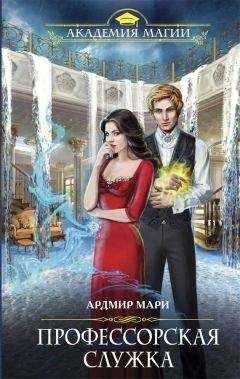Мэтью Дерби
Небесная жатва
(Matthew Derby, Sky Harvest, 2003)
Мы были в небесном шатре, на уборке воздуха.
– Давай работать, – пробурчал немногословный Служка из-под своего чёрного покрывала, и твёрдое чёрное облако покачнулось у нас под ногами. – Хорош отдыхать. Следующее наше.
Неожиданное течение раздуло меха, набитые потрёпанными порывами разноцветного воздуха, который мы собирали в шатре.
Чак в последний раз затянулся и бросил окурок за край облака. Опираясь на уборочные шесты – длиные палки с мягкими, впитывающими тампонами на концах – мы глядели, как крохотные искорки от сигареты уплывают от нас к перекошенному, наводящему уныние городскому пейзажу, к запущенным сплетениям полуразвалившихся фабрик и особняков, которые с нашей точки наблюдения казались лишь наброском для истерических траекторий полёта людей, ежедневно бросающихся в их гущу. Мы были необратимо взволнованы.
Когда-то я жила в одном, а потом другом доме там, внизу, когда «там внизу» ещё было моим местожительством. Я загадала желание, чтобы сигарета пролетела сквозь дымоход первого дома, в котором я жила, дома, который до сих пор на словах принадлежал моему первому и единственному мужу. Вниз по дымоходу и прямиком в химическую вазу, молила я, и если повезёт, то вспышка пламени испепелит не только его жалкое лицо, но и диван, на котором я каждое утро причёсывала ему волосы, и зеркало в прихожей, к которому я его столько раз прижимала, заткнув двумя дрожащими пальцами его узкий надрыв, и собрание зловещих фотографий, сделанных нами в тусклом свете крытого проезда – фотографий, которым не удалось, как и всему остальному, что мы делали, стать чем-то большим, чем простое подтверждение нашей пьяной дерзости. Он был тонкорук, намеренно худощав, почти прозрачен, его присутствие становилось заметным лишь когда его не было рядом, так что в нашей совместной жизни я чувствовала себя более всего одинокой в те моменты, когда он был в одной комнате со мной, высасывая остатки моего вялого воздуха.
Второй дом, дом моей первой жены, был достаточно далеко, чтобы уцелеть при взрыве.
– Чик-чирик! – подключился Венделл. Он был в рубашке с короткими рукавами и сандалетах, от которых исходила вонь.
Чанк тихо выругался, спрятавшись за меха.
– Мне нечего тебе сказать, Венделл.
Мне нечего было сказать Венделлу.
Венделл был новым мужем моей первой жены, её первым мужем-мужчиной. Кожа обтягивала его круглое, жирное лицо, словно пластиковый мешок для мусора. Я представила себе её руку на его груди, представила, какой крохотной, какой смуглой покажется она на фоне его натужной белизны.
– Могу вложить тебе пару слов в уста, – сказал он. – У меня тут осталось маленько в говорильной тубе.
Он похлопал по сумке у себя на поясе. Венделл принадлежал к той породе людей, которым непременно нужно с кем-то поговорить. Таких было большинство, особенно в небесном шатре, где кроме этого оставалось только наблюдать за проплывающей внизу грязной землёй. Я старалась избегать разговоров, в первую очередь не от того, как это действовало на меня, а от того, как это действовало на них, какими уязвимыми они немедленно становились.
– Ладно, как хочешь, – ответила я и встала на колени, чтобы взять в рот мундштук тубы. Что ещё мне оставалось делать в подобных обстоятельствах? Как я могла отказать ему в очередной попытке хоть как-то увязать его искусственную жизнь с моей собственной?
Он вставил мне в рот мундштук. Я почувствовала вкус других жизней, женщин и мужчин, почувствовала, хотя конечно же это было лишь плодом моего воображения, конфетно-сладкую мерзость застывших слюней моей первой жены, намертво въевшихся в обгрызанные, прокусанные бороздки для зубов.
Я расслабила мышцы рта. Он перещёлкнул сдвоенные тумблеры на пульте, заполнив мою ротовую полость жирным, непристойным воздухом. Мой рот произносил вещи, которые ему хотелось услышать.
– Чик-чирик, – завывало его стальное лёгкое, стрекоча и всхрипывая, порождая фальшивый, хихикающий воздух надежды в напряжённом вращении мириадов шестерёнок.
– Знаешь, я так рад, что мы можем поговорить, – сказал он.
Мой рот размяк, онемел.
Пора было возвращаться к работе. Венделл смотал свой аппарат и сунул его обратно в сумку:
– Спасибо. Я…
– Не надо, – сказала я. Слюна стекала на ладонь тонкой струйкой. – Скажи мне – она может ходить?
– Она может писать и держать чашку. Она рассматривает вещи. Мы вместе собираем головоломку.
– Головоломку? Ты что, не можешь на свою зарплату занять её чем-то получше?
– Боюсь, что нет, мэм. Для начала ей надо захотеть встать с постели. Для начала ей надо почувствовать в себе… как бы это сказать… искру. Внутреннюю силу.
– У неё нет причин вставать.
– Мммм, нет, – ответил Венделл, уткнувшись подбородком в грудь. Он говорил тихо и серьёзно, словно пытался пригладить торчащие на груди волосы своими спокойными словами.
Венделл занял своё место на корме вместе с остальными мужчинами. Мы помешивали шестами разрежённый воздух, собирая на тампоны шероховатый налёт кислорода. Мы направляли воздух вниз, в открытые клапаны городского транспортного судна, размахивая посвистывающими шестами подобно вздрагивающим ресничкам гигантской инфузории.
У меня в кармане лежало письмо. Оно начиналось так: «Дорогая Прелл». Так звали мою бывшую жену. «Дорогая ПРЕЛЛ», было написано дальше – мне хотелось, чтобы имя, выпрыгнув со страницы, возмутило её чувства, раскачало мельчайшую рябь на неясной периферии её жизни. Под её именем я изобразила небольшое животное, облик которого, будь он нарисован более опытной рукой, мог бы напоминать тапира, но в моём кудряво-дезинформирующем исполнении скорее походил на шелудивого пса. Тогда я ещё не знала, что это означает – сам акт рисования был не более чем попыткой успокоить мои нервы, когда я сочиняла послание, способом осуществления некоего телесного усмирения. Но постепенно, через несколько дней, животное приобрело совершенно другое значение. Случайно смазавшись в кармане, оно словно бы ожило, ощетинилось, покрытое жёсткой шерстью, будто готовясь к неминуемой атаке.
«ДОРОГАЯ ПРЕЛЛ», было написано под грубой картинкой, «когда я смотрю вниз, я всегда вижу сверху твою макушку, по которой я так часто тебя трепала. Я могу вспомнить каждую её неровность с безошибочностью френолога. Помнишь, как я ревела, когда они окончательно заровняли их все? Как я поддерживала твою голову в палате реанимации, понимая, даже тогда, даже после аварии, когда смотрела на твоё расплющенное лицо, что никогда не смогу освободиться от тебя до конца? Теперь я могу признать то, что не могла признать тогда, признать, что всё случилось из-за меня, что я была пьяна, что сказала тебе, что умею управлять коляской только из чувства противоречия. Но тот ночной туман, перебегавшие дорогу животные, полуголый крестьянин – как я могла это предвидеть? Пожалуйста, пойми хотя бы это.