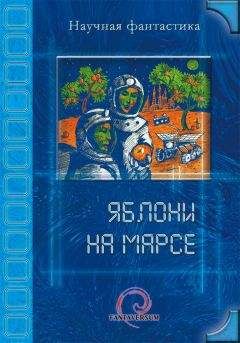И вновь Ивана терзала мысль, что если он не выслужиться сейчас как-нибудь, не покажет свою покорность, то все пропало - и Марья, и Сашка, и Ирочка... Хотя он и чувствовал уже, что прежнего не возвратить, что лег между той светлой рощей в котором говорил он ей впервые о любви и этим страшным днем непреодолимый ров заполненный телами привезенных им детей и женщин, он все же надеялся еще, что может хоть для своей семьи сделать что-то хорошее. Хоть для них он должен как-то выслужиться перед этими, каждому из которых жаждал он перегрызть глотку. Он не мог выслуживаться его воротило от одного взгляда на них, и он знал, что если он откроет рот, то вместо слов полетят из него плевки.
Офицер тоже смотрел на него с презрением, как на падаль - ясно было, что если бы не был Иван шофером, то пристрелил бы он его на месте, как белого пса, как ту девочку... Ясно было и то, что он так и сделает, как только привезет их Иван обратно в город...
И вновь перед ним поднялся из под земли Свирид и, распадаясь на части, заверещал стремительно:
"- Ну что же ты Иван стоишь?! Если так и будешь стоять так и пройдет все напрасно... Вспомни-ка Ирочку свою, помнишь как она ночью к тебе подходила и говорила, что нет и не может быть войны на земле! Ну, помнишь как она тебе говорила, что все это лишь сон кошмарный?! А помнишь ты, как при этом месяц в окно светил, какой сад чудесный был, и канонада смолкла, и ты, глядя на Ирочку, решил, что всего этого действительно не может быть. Ну так вот, Иван, если не выслужишься ты сейчас, то угонят ее в концлагерь - и сына, и жену твою угонят. Гнить они там будут заживо - ну разве ты не знаешь, как в лагерях издеваются? А потом их в печке сожгут - вот и думай теперь Иван, что тебе делать: кусаться ли, плеваться, или выслужиться все-таки, чтобы их спасти!"
Вновь затрещали пулеметы и крики умирающих поглотились в шипящих порывах вновь налетевшего пьяного марша.
Еще не все были убиты: кого-то добивали прикладами, когда подъехал третий грузовик и офицер, прихрамывая на прокушенную Иваном ногу, зашагал к нему.
Из грузовика вновь стали выгружать измученных, перепуганных, по большей части плачущих и стонущих людей. Здесь были все: и дети, и женщины, и несколько мужчин, и старики, и старухи.
Солдат явно не хватало. И вот Иван увидел как какая-то старушка, сгорбившись, скособочившись и едва заметно вздрагивая отшатнулась куда-то в сторону и стала пробираться к высокой, колышущейся за дорогой пшенице.
И вновь Иван слышал этот настырный голос, бьющийся в его голове: "Вот он твой шанс: что же ты стоишь? Видишь эту старуху, ей жить то осталось от силы год, а то, может, и через неделю помрет... да нет - она перенервничала, вон как дрожит вся - прямо на этом поле и помрет - отползет немного в пшенице и помрет. Да, точно, так и будет. Так значит надо показать, что я готов служить, чтобы семью то свою спасти... Ну вот, стало быть, надо эту старуху задержать, она ведь все равно уже мертвая...
Качаясь из стороны в сторону, словно пьяный, он пошел следом за старухой и еще боялся, что она уйдет - она была уже у самой грани пшеницы, еще несколько шагов и желтые, золотистые волны поглотили бы ее.
И тогда он, испугавшись что она уйдет и его не простят, закричал надорванным истерическим голосом, булькая сочащейся из разбитых десен кровью:
- Стой! Стой, стой...
На его крик обернулись сразу несколько солдат, обернулась и бабушка, стоявшая уже у самой грани дышащего теплом моря.
Обернулась и бабушка... Она была стара: глубокие морщины изъели ее темное лицо, а в глубоко посаженных под густыми бровями глазами горели слезы. С укором посмотрела она на Ивана и медленно поднесла к его лицу выгоревшие руки... На руках покоился младенец, одетый в белую рубашку. Младенец этот сладко спал; и его ангельский сон не могли разрушить ни вопли, ни оглушительные вспышки выстрелов...
А потом бабушка открыла свои уста и ее укоризненный, полный сострадания ко всему (и даже к нему) голос, заполнил для Ивана все: поглотил в себя и пьяный марш, и вопли сумасшествия, и каждым звуком, каждым словом, словно бы вбивал клинья ему в самую душу:
- Что же ты, сынок? Что же ты страдаешь здесь? Что же ты позвал то нас, что за бес тебя попутал? Вот посмотри на малыша - Виталиком его зовут... Видишь, как спит то сладко... Зачем ты позвал нас, соколик...
Она хотела еще что-то сказать, да не успела: подбежали солдаты и погнали ее, брезгливо пиная ногами, к наполняющемуся плотью рву. Она, все еще бережно прижимая к груди малыша, часто падала, но каждый раз поднималась...
Иван как бы и рванулся половиной своей души за ней следом - эта половина кричала, что надо остановить ее; вторая же половина оставалась на месте и видела перед собой лица Марьи, Саши и Иры.
И вдруг зашелся он в демоническом вопле:
- Па-а-а-даль я! Па-а-а-адаль!
Темные вспышки раскалывали вселенную и кровавые молнии пронзали небосклон - вновь мировозздание перед его глазами растягивалось, перекручивалось под яростными углами, вспыхивало ослепительными вспышками, дрожало в агонии, носились вокруг какие-то обуянные паникой люди, причиняли друг другу боль...
Иван чувствовал, что теряет сознание - падает в какой-то черный омут... Он уже стоял на четвереньках на разваливающейся под ним на части земле, вцеплялся в нее окровавленными, разодранными ногтями, и грыз ее...
Запели вокруг соловьи и потоками хлынули со всех сторон цвета всех оттенков зеленого, солнечного, да небесного. Он сидел на срубке, а прямо перед собой видел милую, юную Марью. Он, кажется, только что признался ей в любви и слушал теперь как поют соловьи и звенит каменистый, с несколькими водопадиками родничок.
- Иван, - зазвенел голос Марьи, - как прекрасен этот мир, правда! Как здорово! Это ведь весна... нет сейчас лето, но в душе то весна, я так себя только весной чувствую, когда порывало мертвое с земли живой сходит!...
- Марья, Марья, - он схватил ее за руку и зашипел, - Он рушится - этот мир, Марья! Ты радуешься весне, но близится ведь что-то страшное, неминуемое! Мы сидим с тобой на этом зеленом пяточке, уединившись на минутку, ну пусть на час ото всех, но ведь они есть, и есть большой, страшный мир, о котором мы сейчас забыли, но который нахлынет на нас через час. Он, этот мир, Марьюшка, заливается кровью, зло его заполняет... а нам... что нам делать, любимая моя?...
И тут Марья превратилась в ту молодую барышню со старой картины. За ее спиной ожил давно ушедший в небытие пейзаж и давно умершие дети закачались на качелях, а по несуществующему больше озеру закружились грациозно изгибая шеи темные лебеди...
Она задумчиво и печально смотрела на него, а в тонких ее ручках застыла открытая где-то на середине книга. Солнечные лучи нежными поцелуями ласкали лицо Ивана.