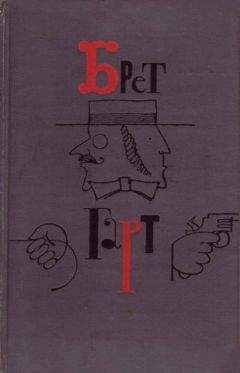Серегин усмехнулся.
— Чепуха! Неразбериха. Алогизм. Разговаривать-то разговаривал, но с ним ли?
— Разве его трудно узнать?
— Трудно.
— Он похож на Диккенса.
— На Диккенса? Сейчас он вылитый Чехов. Бородка клинышком. Старомодное пенсне со шнурком. И даже рост другой.
— Для чего? Почему?
— А я откуда знаю? Любезен. Сердечен. Но держит каждого покупателя на расстоянии. Я все время чувствовал, что между нами прилавок и еще что-то невидимое, но прочное разделяет нас.
— Что он ответил вам?
— Сказал, что не пишет книги, тем более фантастические, а только продает их. Насчет содержания советовал навести справки у Черноморцева-Островитянина, а насчет оформления в издательстве.
— Так бюрократично ответил? Так формально?
— Да. И попросил извинить его. Он на работе. И не имеет ни времени, ни права вести посторонние разговоры. Я еще, несколько раз заходил, делал вид, что интересуюсь, новинками. Но он так посмотрел на меня, что мне стыдно стало. Может, он действительно не имеет отношения к этому феномену? Может, это особое свойство черноморцевского таланта?
— Что вы имеете в виду?
— В магию я, конечно, не верю. В волшебство. Но, может, он телепат и гипнотизер? Гипнотизирует своим стилем?
— Но мы же не читали, а просто смотрели, когда произошел этот странный феномен.
— Да.
— Говорите, похож стал на Чехова?
— Копия. Дубликат.
— После обеда выберу время, схожу, посмотрю сам. Ведь у Чехова совсем другая внешность, чем у Диккенса. Как это ему удалось?
Мои слова не понравились Серегину. Очень не понравились. Его лицо вдруг стало обиженным и даже настороженным. Уж не заподозрил ли он меня в тайном сговоре с загадочным продавцом книг?
— Извините, — пробормотал Серегин. — Я побегу.
И исчез.
Я зашел в книжный магазин незадолго до закрытия. Продавец стоял на своем месте. Действительно, его наружность изменилась.
— Здравствуйте, Диккенс, — сказал я тихо и значительно.
— Разве я еще похож на Диккенса? — спросил он меня.
— Да нет. Сейчас вы, пожалуй, больше походите на Чехова. А для чего? Зачем? С какой целью?
— И это очень бросается в глаза?
— Не очень. Но все-таки заметно. И выражение лица другое. Задумчиво-интеллигентное. В духе девяностых годов прошлого века.
— В самом деле? Значит, сказалось. Последнее время я очень вчитывался в Чехова. Пытался понять сущность его художественного мышления, его обыденных героев. И вот под впечатлением… В отличие от вас, землян, мы слишком впечатлительны, как дети. Но это ничего. Пройдет. На будущей неделе буду читать поэтов: Есенина, Блока, Маяковского.
— Остерегайтесь, — посоветовал я. — Могут обратить внимание сослуживцы, покупатели. Кому-то может это и не понравиться.
— Так советуете не читать? Есенина и Блока?
— Пока я на вашем месте воздержался бы. Очень впечатляющие, сильные поэты.
— Благодарю за совет. Извините. Сейчас будем закрывать магазин. Заходите. Ждем на днях контейнер.
Кто-то из современных историков сказал про письменность, что это особое искусство, которое обогатило человечество сознанием философской одновременности всех поколений. И действительно, письменность сохранила и сохраняет человеческую мысль и соединяет людей прошлого, настоящего и будущего.
История письменности — это моя специальность. И все же я никогда не испытывал того волнения, той страсти от духовного соприкосновения с чужой жизнью через знаки и письмена, какое испытывал Серегин. Он был как бы создан для того, чтобы одновременно пребывать в настоящем и прошлом, слушать голос веков и поколений, с помощью иероглифов и еще более древних знаков приобщаться к тому, что связывает людей в гибкое непреходящее единство истории и жизни.
Философская одновременность всех поколений ведь, казалось бы, полная победа над временем. Нет, не полная. Знаки и письмена открывают дверь в прошлое, но дверь в будущее все же остается закрытой. Она откроется только тогда, когда человечество войдет в контакт с инопланетным разумом. Не раньше.
Эта мысль не давала покоя Серегину, особенно теперь, когда инопланетный разум вдруг заговорил, избрав посредником продавца книг в магазине на Большом проспекте Петроградской стороны.
Чудо почти свершилось, но Серегин не верил, да и я тоже верил в сущности только в те минуты, когда, заигрывая с моими человеческими чувствами, появлялось и исчезало изображение на страницах черноморцевского романа.
Прошел месяц, потом еще два, и все шло своим обычным земным порядком. Раскрывая книги, я видел в них только то, что в них было напечатано, не больше. Серегин тоже раскрывал книги-новинки уже без страха, но и без надежды познать нечто, противоречившее здравому смыслу. Время от времени и он и я заходили в магазин на Большом проспекте посмотреть на продавца, все еще чуточку похожего на Чехова, да и на Диккенса тоже.
Каждый раз мы делали вид, что нас привело в магазин обыденное желание не пропустить какую-нибудь интересную новинку. И мы, действительно, проявляли чрезмерный интерес ко всему, что лежало на книжном прилавке. А что лежит на книжном прилавке, вам известно. Брошюры, толстые пыльные книги и пособия для педагогов с интригующим названием «Где граница озорства».
Да, он умел работать с книгой, ничего не скажешь. У него покупали. Он выполнял и перевыполнял свой план.
В душные жаркие дни он стоял у раскладного столика на улице, окруженный наэлектризованной толпой, у которой он умел возбудить интерес, разжечь искру благородного любопытства, словно за каждой книжной обложкой было спрятано чудо. тайна всего мироздания и каждой отдельной личности, появляющейся на малютке Земле с тем, чтобы, не задерживаясь, уступить очередь следующей для участия в бесконечно развертывающемся мировом процессе.
— Не кажется ли вам, — сказал мне тихо Серегин, показывая взглядом на продавца, — что в нем живет дух информации, дух письменности и печати, живое олицетворение связи поколений?
— Нет, не кажется, — ответил я.
Серегин вопросительно посмотрел на меня.
— Ведь он призван, — продолжал я, — соединить не поколения, а два разума, две логики; нашу и ту, что уполномочила его.
— Бросьте, — перебил меня Серегин, — не верю. Да и вы не верите в то, что говорите. Он гипнотизер, телепат, талантливый фокусник, умеющий ловко играть на чужом восприятии.
— Тогда почему, он продает книги, а не выступает с психологическими сеансами, за которые хорошо платят?
— Любит книгу, — сказал Серегин. — Сейчас таких много, помешанных на книге. Особый сорт людей. Такие раньше уходили в монастырь, запирались в кельи ради разговора наедине с богом, Сейчас богом стала книга. Она заменила веру. Прибежище суровых, аскетичных душ.