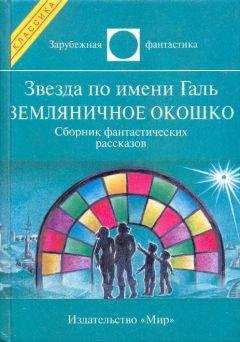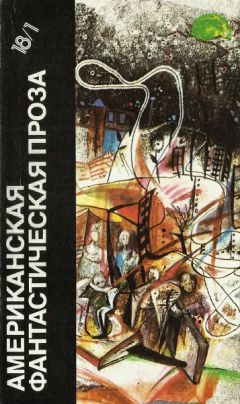— А ты понимаешь, что такое чудак?
— Не…
Я поднял ее и поставил на ноги.
— Скажи маме, что мы с ней квиты. Скажи — она красавица.
Дочка неуклюже покатилась между рядами клеток, и все мутанты, покрытые коричневой и голубой шерстью, то чересчур густой, то чересчур редкой, непомерно длиннорукие и смехотворно коротколапые, повернули свои обезьяньи, собачьи, кроличьи мордочки и уставились на нее. На пороге она оглянулась, чуть не шлепнулась и помахала мне на прощанье.
Я вернулся в лабораторию, достал из биоускорителя моих первых планерят и вытащил уже не нужные иголки для внутривенного вливания. Перенес их, маленьких, беспомощных, на матрас — двух самочек и самца. В ускорителе они меньше чем за месяц стали почти взрослыми. Пройдет еще несколько часов, пока они зашевелятся, начнут учиться есть, играть и, может быть, летать.
Но уже сейчас ясно, что опыт наконец-то удался и мутанты жизнеспособны. Получилось нечто необычное, но полное смысла и гармонии. Не какие-нибудь чудовища, уродливый плод сильного облучения, — нет, очаровательные существа без малейшего изъяна.
К двери подошла моя жена.
— Завтракать, милый.
Она тоже попыталась открыть, но осторожнее — словно бы нечаянно взялась за ручку.
— Иду.
Она тоже попыталась взглянуть внутрь, как пыталась уже пятнадцать лет, но я выскользнул в щелку, загородив собою лабораторию.
— Идем, старый отшельник. Завтрак на террасе.
— Наша дочь говорит, что я чудак. Как это она догадалась, черт возьми?
— Слышала от меня, разумеется.
— Но ты меня все равно любишь?
— Обожаю!
Она приподнялась на цыпочки, обняла меня за шею и поцеловала.
Стол, накрытый на террасе, выглядел восхитительно. Горничная как раз принесла бифштексы. Я легонько ущипнул ее.
— Привет, малютка!
Жена растерянно улыбнулась и посмотрела на меня круглыми глазами:
— Что на тебя нашло?
Горничная убежала в дом. Я ухватил бифштекс, шлепнул на тарелку ломтик лука, поднял соусник и объявил:
— Вступаю в опасный возраст.
— Боже милостивый!
Я полил бифштекс соусом и накрыл луком. Откупорил бутылку пива и стал жадно пить прямо из горлышка, потом перевел дух, поглядел на дубовую рощу и мягко круглящиеся холмы нашего ранчо и вдаль, где мерцал под солнцем Тихий океан. Все это, подумал я, и трое планерят впридачу!..
Утер рот тыльной стороной ладони и сказал:
— Да, именно, опасный возраст. И я намерен позабавиться.
Жена терпеливо вздохнула. Я подошел к ней, все еще не выпуская бутылки, обнял за плечи и свободной рукой потрепал по щеке. В голубых глазах жены вспыхивали от солнца золотые искорки. И, любуясь этими сияющими глазами, я сказал:
— Но опасен я только тебе одной.
Мы целовались, пока по одну сторону террасы не загремели ролики, а по другую — конский галоп.
— Ты чудесная, — шепнул я.
— Благодарю. А ты образцовый семьянин.
Сын круто осадил коня — мой подарок ко дню рождения (ему только что исполнилось четырнадцать) и завопил:
— Прочь руки от прекрасной девы, разбойник! Не то я всажу в тебя отравленную пулю!
Я расхохотался, взял тарелку и сел на свое место. Жена придвинула мне салат, я жевал и смотрел, как сын расседлал лошадку, хлопнул ее по крупу и она побежала на луг.
Вот бы он вскинулся, если б знал, что у меня в лаборатории, подумал я. Все они с ума бы сошли!
Сын поднялся на террасу, бросил седло на пол.
— Мам, я после поем, сперва искупаюсь. Он начал раздеваться.
— Да, похоже, тебе сполоснуться не вредно, — согласилась она, взяла тарелку и села рядом со мной.
Дочь рывком сняла ролики.
— Я тоже хочу сполоснуться!
— Хорошо. Только пойди надень купальник.
— Ну-у, мам! Зачем?
— Затем, что я велю, малышка.
Сын промчался по террасе и с разбега нырнул в пруд. Заслышав прохладный плеск, дочка побежала надевать купальник.
— Что это тебе вздумалось? — спросил я жену.
— Скоро она будет большая.
— И поэтому обязательно надо одеваться? Посмотри на сына, он-то уже и теперь большой.
— Что ж, тогда пускай оба купаются одетые.
Я проглотил последний кусок бифштекса, запил пивом. И сказал жалобно:
— В этом доме все летит к чертям. Старику уже не позволяют ущипнуть горничную, детям нельзя бегать голышом. — Я наклонился и чмокнул жену в щеку. — Но старушка и еда по-прежнему на высоте.
— Слушай, что с тобой творится? — спросила жена. — С той минуты, как ты вышел из лаборатории, ты не перестаешь ухмыляться… будто разыгравшийся орангутан.
— Я же сказал…
— Ох, будет тебе! Ты во всяком возрасте опасен.
— А все-таки я нашел новую забаву.
Она потянулась и схватила меня за ухо. Прищурилась, с напускной суровостью поджала губы.
— Это шутка, — сказал я. — Хочу сыграть отличную шутку с целым светом. Когда-то в моей жизни уже было что-то похожее, но…
— А именно?
— Ну, мы тогда жили в Оклахоме, отец нашел там нефть и разбогател. Городишко был маленький, я бродил по полю и наткнулся на кучу плоских камней, а под каждым камнем свернулся ужонок. Я набрал их полное ведро, принес в город и высыпал на тротуар перед кинотеатром, там как раз кончался утренний сеанс. Главное, никто меня не видал. И никто не мог понять, откуда взялось столько змей. Вот тут я и испробовал, до чего это здорово: всех поразил, а сам стоишь и любуешься, как ни в чем не бывало. Жена отпустила мое ухо.
— Значит, вот как ты намерен забавляться?
— Ага… Прости, родная, я доем и побегу. У меня в лаборатории спешное дело.
По совести говоря, в лаборатории меня ждало такое, на что я и не рассчитывал. Я собирался только вывести летучее млекопитающее, которое скользило бы и планировало в воздухе немного лучше, чем сумчатая австралийская летяга. Даже среди ранних моих мутантов в последние годы появлялись такие, которые очень далеко ушли от обыкновенных крыс (с крыс я начал) и определенно напоминали обезьян. А эти первые планерята поразительно походили на людей.
Притом они гораздо быстрей, чем их предшественники, выходили из спячки, во время которой в биоускорителе совершалось их стремительное созревание, и уже пробуждались к активной жизнедеятельности. Когда я вошел в лабораторию, они ворочались на матрасе, а самец даже пытался встать.
Он был немного крупнее самочек — рост двадцать восемь дюймов. Все трое покрыты мягким золотистым пушком. Но лицо, грудь и живот чистые, вместо шерстки гладкая розовая кожа. На голове у всех троих, а у самца и на плечах шерсть гуще и длиннее — гривкой, мягкая, точно шиншилла. Лица совсем человеческие, очень трогательные, только глаза огромные, круглые — ночные глаза. Соотношение головы и туловища то же, что и у человека.