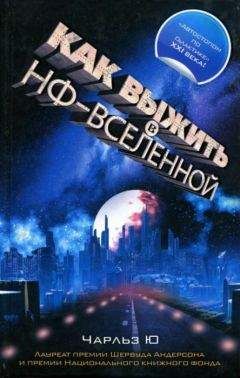Иногда отец отрывал верхний лист с красной, матово отблескивавшей лентой переплета и клал его на стол, чтобы не оставлять оттисков от карандаша или ручки на следующих двух-трех-четырех (если уж совсем сильно налегать). Звук при этом был и похож, и не похож на тот, с которым рвалась целлофановая упаковка — он был грубее, глубже, вообще как-то солиднее. Чаще, правда, лист оставался на месте — отцу так больше нравилось. Толстая подкладка смягчала контакт пера с поверхностью бумаги, делала его более плотным, увеличивала площадь соприкосновения, чернила глубже проникали в капилляры, линии получались ровнее, толще, в них чувствовалась основательность, характер, но главное — весь альбом, все девяносто девять листов, лежавшие под тем, верхним, а всего круглым числом сто, десять во второй, в квадрате, все эти пустые пока, ничем не наполненные плоскости, со всеми рисунками, схемами, графиками, кривыми, которые еще только должны были появиться на них, уже составляли целое, настоящее время-пространство. Вопросы и ответы, тайны и разгадки — все было на этих листах в клеточку, и каждая, самая сложная задача находила здесь свое решение.
— Сегодня мы отправляемся в пространство Минковского, — говорил отец. Несколько легких движений руки в мире реальном, и вот уже в пустовавшем до тех пор мире-на-бумаге появляется направление и протяженность и начинают действовать невидимые силы.
— Возьмем некий объект, — продолжал он, рисуя вектора и записывая уравнения. — Пусть, например, это будет один из пары идентичных близнецов, движущийся со скоростью света, или некий одинокий астронавт, который возвращается домой.
Мне нравилось, как отец использует весь лист целиком: подписывает оси координат, в одном углу помещает примечания, в другой, левый нижний, заносит легенду. Но больше всего я любил смотреть, как он вычерчивает по сетке кривую графика для какой-нибудь функции, равной одной второй икс куб плюс четыре икс квадрат плюс девять икс плюс пять, как она взмывает в верхний правый угол после изгиба во втором квадранте, как появляется рядом с ней уравнение функции, подтверждающее ее существование в пространстве науки, в НФ-мире, во вселенной НФ-уравнений. Мне нравился почерк отца, такой аккуратный, выработанный, несомненно, за многие и многие тысячи часов занятий — в школе и после школы, в свободное время, на работе и после работы, во время своих вечерних и ночных бдений, и вот теперь вместе со мной, сыном, учеником, будущим коллегой и помощником в исследованиях. Он выводил буквы так тщательно, с таким единообразием в размере и начертании, что они выглядели как реплики героев комиксов. Идеально расположенные, они не лепились друг к другу и не жались в своих клетках, словно узники (это было бы некрасиво — чересчур строго, сухо, чересчур спланированно); нет, буквы и слова только придерживались направления, задаваемого горизонтальными линиями, проходя и над, и под, и прямо по ним. Никаких подчеркиваний, никаких рамочек или других условных обозначений — ничего, что отделяло бы текст от кривых, противопоставляло пространство и его описание. Слова не выходили за границы мира, они просто занимали свое место на плоскости, между кривой графика и осью игрек, сосуществуя с ними. Это была платоновская картина полной демократии, онтологического равноправия идей и вещей, их неслитного и нераздельного симбиоза без малейшего превосходства одного из классов над другим. Слова оставались частью целого, частью того, в чем были потенциал, и польза, и удобство, того, где все могло быть записано, обдумано, решено, распутано, где во всем присутствовала логика, взаимосвязь, математическое обоснование, и любой компонент по отдельности можно было вытащить, осмыслить, исправить и переделать.
Биохронометр, вживленный под кожу моего левого запястья, показывает, что я провел здесь уже почти десять лет из своей личной продолжительности жизни. Точнее, девять лет, девять месяцев и двадцать девять дней. Именно столько времени прошло для меня, для моего тела, для моего сознания. Грубо говоря, это отражает, сколько раз я вдохнул-выдохнул, моргнул, перекусил, поспал, сколько чего отложилось у меня в памяти.
И если я правильно понимаю, мне уже перевалило за тридцать.
Думаю, нет нужды говорить о том, что ремонтникам вроде меня нечасто обламывается что-то в плане секса. У меня последний раз было пару лет назад. Просто случайная связь и не совсем с человеком — с девушкой-гуманоидом. Но, по крайней мере, без рубашки она оказалась ого-го. Мы пару раз потусовались вместе, и у нас дошло-таки до чего-то более серьезного, но в конце концов ничего не вышло: я так и не смог разобраться с ее анатомией — а может быть, она с моей. Все же, за исключением нескольких неловких моментов, кажется, было неплохо. То есть мне-то точно, но, думаю, и ей тоже. Она отлично целуется — я надеюсь, это был все-таки ее рот или что-то вроде. В принципе, так и так это бы кончилось ничем — не та химия мозга, никакой способности к любви. У нее, в смысле. Или у меня.
В последнее время я даже секс-роботами редко стал пользоваться. Это когда тебе тринадцать, думаешь: вот было бы здорово оказаться в мире, где будут такие автоматы: сунул, например, доллар, и секс тебе гарантирован. Потом ты вырос — все так и есть, стоят на улице секс-автоматы на монетках. Вот только ничего особо классного тут нет. И из-за того, что это нисколько не избавляет тебя от постоянного одиночества, от тьмы и пустоты, и из-за того, что — ну противно же. Все знают, зачем ты заходишь в будочку, — друзья, соседи, родные. Знают, потому что сами туда наведываются. Еще из-за того, что технология не сильно-то ушла от консолей первого поколения. Но никто не жалуется — за доллар-то.
Когда живешь так, как я, понятие года теряет смысл, как и понятие месяца, и недели. Дни вылетают из сетки календаря, как выбитые стекла из окон, как кубики льда, вытряхнутые из формочки в раковину, и остаются лежать в ней грудой одинаковых, безымянных, без-датных кусков времени, постепенно расползаясь в совсем уж неразличимую массу. Что сейчас — суббота, пятница, понедельник? Тринадцатое апреля или второе ноября? Никак не отделить один день от другого, не вместить каждый в свою коробочку, в двадцатичетырехчасовой набор событий, имеющий начало и конец, в страницу ежедневника. Все вместе, вперемешку — ясное морозное декабрьское утро, проведенное с отцом, и длинный ленивый вечер в конце августа, закат, который, кажется, будет длиться вечно, солнце замирает на горизонте, каждая минута растягивается так, словно пытается подвинуть предыдущую, время течет медленно-медленно, как патока, густой лавой поднимаясь откуда-то из океанских глубин и застывая на поверхности новорожденным островом.