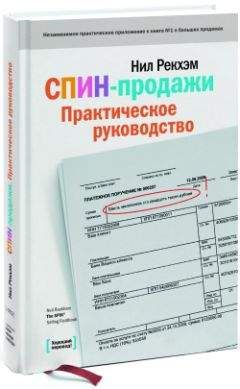Я похолодел.
Так можно далеко зайти.
Все последующие попытки мои в чтении Френсиса были бесплодны. Забросив "покет", я думал, восстанавливал в памяти чуть ли не поминутно: разговор с Сергеем, барьер на переходе, зомби, сидящий на полу… Иногда мне казалось, что я очень близко подбираюсь к чему-то важному, но в результате сбивался с мысли, какой-то посторонний эпизод словно нарочно всплывал в голове, уводил в сторону…
Потом позвонила мама.
— Сынок, ты где? У тебя все в порядке?
— Все х-хорошо.
Я прикрыл телефон ладонью, чтобы приглушить шум поезда. Объяснять, почему я в метро, а не на работе, не хотелось.
— Как ноги? Не болят? Ты их массировал?
В этом вся мама. Десять тысяч вопросов в минуту.
— Д-да.
— Смотри, не забывай.
Я представил, как она, сидя на диванчике перед телевизором, грозит мне пальцем.
— Х-хорошо. Я с-сегодня п-попозже буду.
— Неужели девушка? — обрадовалась в трубку мама.
— Ну, м-мам…
— Все-все. Молчу. Береги ноги.
Я, вздохнув, отключился.
Как с мамой все сложно. Девушка — ее идея фикс. Я должен завести семью, я должен оставить потомство, мне и так уже к тридцати…
В общем-то она, конечно, права.
В три часа я поднялся в знакомое кафе и пообедал там картофелем с мясом. Никто на меня не смотрел. Не было и желающих подсесть. Я даже почувствовал некоторую обиду. Что — все? Кончилось притяжение?
Кровь отлила от головы к желудку, и оставшееся время до встречи прошло в тоскливой дремоте. Я снова сидел на скамейке и под шорох ног, гудки и стуки клевал носом. Думать ни о чем не хотелось. Смутные образы всплывали в сознании, перетекали друг в друга: мальчик, прижавшийся к стеклу, брошка-веточка в синих камешках-ягодках, медленно ползущие навстречу друг другу вагонные створки.
Под конец приснилась яма.
Я, оскальзываясь, полз по ее стенке вверх, а внизу волновались люди, их лица, похожие во тьме на японские театральные маски, бледными запрокинутыми овалами жались друг к другу, искривленные рты шипели, пустые глазницы напряженно ждали моего краха. Небо неровным кругом синело в вышине.
Падай! Падай! Падай! — звенел воздух.
И я, конечно, упал. Камень вырвался из-под ноги, пальцы какое-то мгновение еще цеплялись за малюсенькую трещинку, но потом…
Ах! — выдохнули рты.
Я люблю такие сны. За медленно тающий сладкий ужас. За облегчение, вытесняющее грудной холод. За мелкую дрожь еще не верящего в спасение тела.
Но больше — за то, что они в себе несут.
В отраженном, искаженном мире подсознания есть свой код. Тут главное — зафиксировать картинку, сохранить ее первозданной, без примесей додумывания, облагораживания, дорисовывания деталей. И понять.
Я открыл глаза.
Получается — что, боюсь?
Френсис лежал на полу, лениво шевеля страницами. С ним тоже случилось падение. Табло у эскалаторов делило восемнадцать на двадцать.
В горле пересохло, но подниматься наверх за водой или соком времени уже не было.
"Знаешь, — как-то сказал мне Виктор Валерьевич, — все люди боятся. У каждого человека — тьма-тьмущая причин для страха".
Я лежал на кровати, вымотанный, выкричавшийся, со сведенными, уродливыми ногами.
Только что я, саботировав массаж, устроил форменную истерику, выгибался бледной гусеницей, плевался слюной: з-зачем жить? з-зачем вообще все?
Я был такой дурак.
"Я раньше тоже боялся, — сказал Виктор Валерьевич. — Знаешь чего?"
Он отошел к окну, мимоходом качнув головой заглянувшей в комнату маме. Фигура его застыла на фоне вечерней уличной мглы — неестественно прямая, напряженная спина, седой затылок, пятно отраженного в стекле лица.
Сейчас я думаю, ему очень трудно было делиться со мной своим страхом. Я, ребенок, мог его не понять. Но он себя переборол.
"Года три назад, еще до тебя, — очень тихо начал Виктор Валерьевич, — у меня умер сын. Ему было сорок девять, но он умер".
Он обернулся, грустно улыбнувшись, пожал плечами. Мол, чего не бывает.
"А я, когда кто-то рядом… Обычно думаешь, все там будем. И живешь себе дальше… Сейчас. Я постараюсь почетче… — он вздохнул. — А тут я вдруг почувствовал, что в любой момент и сам могу умереть. В любую секунду. И все, Колька, и весь привычный мир пропадет. Меня из него изымут. Был я — и нету. Так просто. Как я испугался!"
Виктор Валерьевич, наклонившись, заглянул в глаза своему отражению.
"И чт-то?" — шепотом спросил я.
"Это очень противное чувство. Кажется, что внутри тебя поселилась постоянная дрожь. Какое-то насмерть перепуганное существо-желе. Я умру, я умру, я умру, — твердило оно все время. Боже мой, я умру! И дрожало каждой клеточкой…"
Он вдруг дернулся, резко вобрав шею в плечи. Мне подумалось, что это встрепенулось то самое существо внутри его. Желе.
"А потом, — сказал Усомский, — я решил, что страх надо подпустить очень близко к себе. Совсем близко. Вплотную. По старой дружбе один приятель открыл мне морг. Я разделся, лег на свободный стол, накрылся простыней, приятель выключил свет. Я подумал, вот так я и буду лежать. В тишине. В холоде. Среди таких же… — Виктор Валерьевич ладонью накрыл отраженное лицо. — А потом я уснул. Странно, да? В морге… И во сне я понял… Вещь-то совсем простая оказалась…"
Он подышал на стекло и нарисовал пальцем смешную рожицу: кружок, а внутри глаза-точечки, рот-улыбка.
"Я понял, — Виктор Валерьевич подсел к кровати и, спросив взглядом разрешения, распрямил мне ноги, — что страх — это тоже загадка, вот как в наших с тобой детективах. Его можно разобрать на детальки, исследовать и найти, чего боится он сам".
"Ст-трах б-боится?" — не поверил я.
"Конечно, — кивнул он. Руки его мягко обхватили мне пятку. — Оказалось, мой страх очень боится порядка, мытья полов, стирки и глажки, кухарничанья, и вообще любой осмысленной работы. А еще он боится утренних бутербродов с маслом…"
Я смешливо фыркнул.
"Да-да, бутербродов с маслом, — Виктор Валерьевич перешел с пятки на икру. — Масло должно быть подтаявшее слегка, чтобы мазалось легко, ложилось на хлеб золотой дорожкой… Ах, — он причмокнул ртом, — такая вкуснотища… Мой страх боится, когда я чему-то радуюсь. И твой страх, наверное, тоже. А уж ежедневной работы — точно боится. И если мы смело продолжим заниматься ногами…"
Я поднялся и, прихватив Френсиса, заковылял к платформе.
Хорошо, подумал я, пусть я боюсь. Получается, я боюсь людей? Если полз от них? Или здесь тоньше?
Я покосился на толпящихся вокруг меня.
Вот вообще ничего к ним не испытываю. Немножко раздражения. Совсем чуть-чуть. И все. Мне кажется, мы находимся по разные стороны жизни. Я имею ввиду себя и остальное большинство. Я — инвалид, они — обычные человеки. Видовое сходство, и только. Рядом мы терпим друг друга с трудом. Невидимая граница проложена раз и навсегда. Во всяком случае, со мной редко кто не испытывает неловкости. Даже если пытается ее прятать.