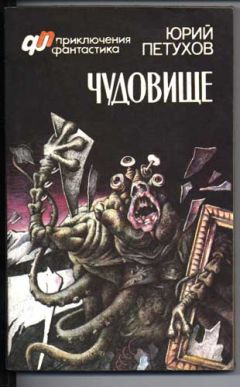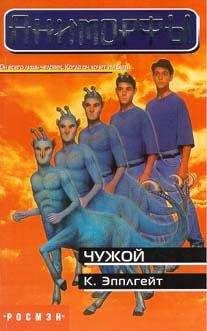— Живей, живей, голубок, — вился рядышком гугнивый, — не заставляй ждать людей, ну давай, давай же!
— Не хочу! — прохрипел он сдавленным горлом сквозь стиснутые судорогой зубы. — Не хочу!
— Да ты не боись, милай, не боись! Нешто мы варвары какие! — Выпученные глазища желтели перед самым лицом, и казалось, в них появилось даже некоторое сострадание, сочувствие к жертве. — Все будет путем, мы тебе в каждую ладошку по полпинты новокаина закатаим — и не почуешь ничего, голубь, будешь себе болтаться, как в ясельках, на радость людям!
— Распять его!
— На кол! На кол!
— Да не спеши ты…
Сил не было. Но он шел, не веря в происходящее и не видя выхода, понимая, что именно это и только это и есть самая доподлинная реальность, самая материальная и живая. Да кто же они?! Откуда они?! Он напряг силы и присмотрелся. И по краям дороги, и впереди стояли, прыгали, терлись друг о друга и заглядывали вниз, ему в лицо самые обычные люди. Одеты они были кто во что горазд: повсюду мельтешили и туники, и халаты восточные, пестрые и теплые, и серые заурядные, но экзотические в этой средиземноморской глуши ватники и душегреи, распахнутые по случаю особого климата. В землю били, топтали ее нетерпеливо тысячи сандалий, загнутых турецких туфель, то тут, то там, среди множества босых ног, ерзали нетерпеливо сапоги всех покроев и кож, даже валенки и те угадывались в сплошной толчее ног. В воздух взлетали тюбетейки, чепчики, ушанки, гребнистые шлемы и самые обычные шляпы. Отдельной группкой стояло человек двенадцать в костюмчиках, при галстуках, с «дипломатами» в руках. Они были очень выдержанны и лишь сочувственно и с нужным пониманием благожелательно кивали в ответ на возгласы, как бы всемерно одобряя народное мнение, но сами не кричали. Когда они стали ближе, увидели его, то у всех, будто по команде, на лицах появился немой укор, неодобрение. Толпа была разнолика, многообразна и непонятна, до боли непонятна.
— Не сумлевайся, голубок, гвоздочки как в маслице войдут, не почуешь даже. Сам видишь — все для тебя делаем! Ничего не жалеем! — Гугнивый бес прослезился, захлебнулся и вовсе соплями, прочувствованно смолк, прогундосив лишь: — Не подведи-и-и!
Он шел только потому лишь, что видел в нескольких метрах перед собой неестественно напряженные шею и спину тоскливого легионера, как бы слыша его грустный голос: положено, так надо, браток, терпи. И тот впрямь обернулся на ходу, кивнул и впервые за все время надел на голову свой красивый сверкающий шлем.
— Вот и пришли почти. Гляди-ка!
Он приподнял голову, распрямился. Впереди высилась гора, высвеченная ослепительным солнцем, сияющая в его лучах, будто не земное, а некое небесное творение.
— Держи, голубок! — Гугнивый с размаху опустил ему на голову что-то колючее, тяжелое, причинившее жгучую боль. — Вот твоя корона земная! Ты добился своего! Смотри, как тебя привечают облагодетельствованные тобой. Они ждут! Они жаждут, голубок! Иди, искупи их грехи, они достойны этого, они воздадут тебе! Хе-хехе, — гугнивый захлебнулся в мелком, бесовском смехе. Это был его час, его ослепительная минута бытия, ради которой жил. И он торжествовал.
Многопудовый крест сам сполз по хребту, уперся в землю. Стало на мгновение легче, но только на мгновение, потому что сам хребет и без тяжести чувствовал ее, и без груза был пронзен болью. Рука машинально впилась в терновый венец, сорвала его, раздирая в кровь кожу головы, отбросила в сторону.
— Нет! Не хочу! Оставьте меня, оставьте! — Такого отчаяния и злости еще никогда не было в нем. — Почему я должен умирать за вас за всех, искупать ваши грехи, нет! Не хочу!!!
Гугнивый не гнал его, не подстегивал, не взваливал креста на плечи. Он стоял рядом на полусогнутых, кривеньких ножках с открытым щербатым ртом, и в глазах его был дикий, неописуемый восторг, казалось, вот-вот и он завизжит, как хряк в миг оргазма. Смотреть на него было тошно.
— Не-ет! — Он заорал во всю глотку, на всю вселенную. И в крике этом было исступленное отчаяние, он не хотел умирать ни за кого, ни даже за самого себя, а уж тем более ради этой беснующейся, осатаневшей толпы. — Не-е-ет!
Тоскливый легионер стоял совсем рядом. И грусти в его глазах было еще больше, и скорби тоже — еще больше, чем прежде. Щеки его были мокры. И он не утирал их. Но он — молчал, ничего не говорил, он только смотрел, мелко моргая своими красными голыми веками.
— Не-е-ет! Никогда! Не хочу!!!
Сияющая вершина горы как-то неожиданно погасла, превратилась в обычную макушку холма. Небо заволокло сначало серым, потом черным. Вдалеке ослепительно ярко вспыхнула молния, громыхнуло. Гора медленно поползла вниз, засыпая своими обломками, градом камней, песка, пыли толпу, что стояла у ее подножия. Но никто не кричал. Было на удивление тихо — ни звука, ни возгласа, ни шелеста, ни шепота. И так до тех пор, пока совсем не смерклось, пока тьмой не заволокло все окрестности, и самое сознание, отказывавшееся понимать что-либо в этой нелепой и страшной картине, воспалившей воображение и вдруг угаснувшей. Только напоследок мелькнуло что-то похожее на сожаление: а ведь могло быть? Но нет — не было, ничего не было, ничего не произошло, ничего не случилось.
Кругом было темно и пусто.