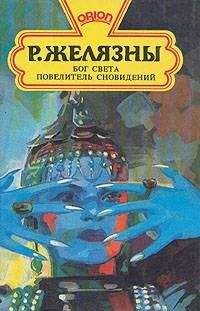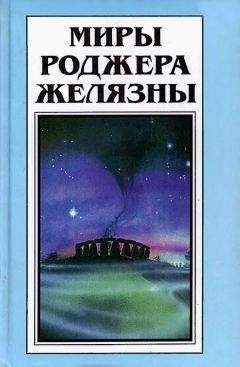— А я полагаю, что это ты.
— Что же ты собираешься сейчас предпринять?
— Так как я не в состоянии переубедить тебя, то мне остается только одно — помешать вам.
— Ты не сможешь убрать секретаря Рэдпола и его супругу без шума. Не забывай, что мы очень обидчивы.
— Я знаю об этом.
— Поэтому ты не сможешь причинить вред Досу, и я не верю, что ты сможешь причинить вред мне.
— Ты права.
— Значит, остается Хасан!
— Еще раз правда на твоей стороне.
— Но Хасан есть Хасан! Что ты можешь предпринять против него?
— Почему бы вам прямо сейчас не дать ему увольнительную и избавить меня таким образом от хлопот?
— Мы не можем этого сделать.
Она подняла взор. Глаза ее были влажными, но лицо и голос ничуть не изменились.
— Если окажется, что ты прав, а мы заблуждались, — произнесла она, — то уж постарайся простить нас.
— Простите и вы меня тоже, — кивнул я.
Всю эту ночь я почти не спал, находясь рядом с Миштиго, но ничего не случилось.
Следующее утро прошло без особых событий, как и большая часть дня.
— Миштиго! — произнес я, как только мы остановились поснимать склоны очередного холма. — Почему бы вам не уехать домой? Вернуться на Таллер, а? Или куда-нибудь еще? Просто уйти отсюда и написать какую-нибудь другую книгу. Чем дальше мы удаляемся от цивилизации, тем меньше мои возможности защитить вас.
— Вы дали мне пистолет, понятно? — Он изобразил правой рукой, будто стреляет.
— Очень рад за вас, что вы так решительно настроены. Но все же подумайте хорошенько.
— Этот козел находится на нижней ветке вон того дерева?
— Да. Им очень нравятся молодые зеленые побеги.
— Я хотел бы сфотографировать его. То дерево называется оливковым?
— Да.
— Хорошо. Я хотел бы знать, как правильно подписать этот снимок: «Козел, объедающий зеленые побеги оливкового дерева». Неплохой заголовок?
— Прекрасный. Снимайте побыстрее, пока козел еще там.
Если бы он не был таким коммуникабельным, таким четким, таким безразличным к самому себе. Я ненавидел его. Я не мог его понять. Он разговаривал только тогда, когда о чем-то спрашивал или отвечал на вопрос. И всякий раз, когда он удостаивал вопрос ответом, он был кратким, уклончивым, высокомерным, причем зачастую все это одновременно. Он был самодовольным, тщеславным, синим, во всем проявлялась его власть. Он заставил меня глубоко задуматься о традициях рода Штиго в области философии, филантропии и просвещенной журналистики.
В этот же вечер я разговаривал с Хасаном, после того, как весь день не спускал с него глаз. Он сидел у костра, будто сошел с картины Делакруа. Эллен и Дос Сантос сидели поблизости, попивая кофе.
— Мои поздравления!
— Поздравления?
— За то, что вы не пытались убить меня.
— Нет.
— Вероятно, завтра?
Он пожал плечами.
— Хасан, посмотрите на меня!
Он повернулся в мою сторону.
— Вас наняли убить этого синего?
Он снова пожал плечами.
— Не нужно этого отрицать, да и признавать не нужно. Я уже и так все знаю. И поэтому я не могу допустить, чтобы вы это сделали. Верните деньги, которые заплатил вам Дос Сантос, и ступайте своей дорогой. Я могу раздобыть для вас скиммер к утру. Он доставит вас в любое место, какое вы только пожелаете.
— Но я счастлив здесь, Карачи.
— Ваше счастье тотчас же прекратится, как только с этим синим что-нибудь случится.
— Я телохранитель, Карачи.
— Нет, Хасан. Вы сын верблюда диспентика.
— Что такое диспентик, Карачи?
— Я не знаю эквивалента в арабском, а вы не знаете греческого. Обождите минуточку, и я подыщу другое оскорбление. Вы — трус, пожиратель падали, крадущийся по темным закоулкам, потому что вы — помесь шакала и обезьяны…
— Возможно, это именно так, Карачи, так как мой отец говорил мне, что я родился для того, чтобы с меня живого содрали кожу и четвертовали.
— Почему?
— Я был связан с дьяволом.
— Да?
— Да. Это чертям вы играли вчера? У них были рога, копыта.
— Нет, это были не черти. Это результат воздействия радиации на детей несчастных родителей, которые бросили их умирать в этой глуши. Они же тем не менее выжили, но потому, что глушь для них — это настоящий родной дом.
— О! А я-то считал их чертями. Я до сих пор так о них думаю, потому что один из них улыбнулся мне, когда я молился о том, чтобы они простили меня.
— Простили? За что?
В глазах араба читалась отрешенность.
— Отец мой был человеком добрым, порядочным, религиозным. Он поклонялся Малаку Тавсу, которого невежды шииты (здесь он сплюнул) называют Иблисом, или Шайтаном, или Сатаной. Его благочестие было широко известно наряду со многими другими добродетелями. Я любил его, но в меня, еще в мальчишку, вселился какой-то бес. Я стал атеистом и не верил в дьявола. Я был дурным ребенком, так как подобрал где-то мертвого цыпленка, насадил его на палку и назвал Ангелом-Павлином. Я дразнил его, швырял в него камни и выщипывал перья. Один из мальчиков постарше перепугался и рассказал об этом моему отцу. Отец выпорол меня прямо на улице и сказал, что с меня сдерут кожу живьем и четвертуют за богохульство, если только я еще раз позволю себе подобное. Он заставил меня отправиться на гору Занджар и вымаливать там прощение. Я пошел туда, но бес не оставил меня. Несмотря на порку, я не верил в свои молитвы. Теперь, когда я уже стал старым, бес этот пропал, но мой отец умер много лет назад и я не мог сказать ему: «Прости меня за то, что я богохульствовал». Становясь старше, я стал ощущать необходимость веры. Надеюсь, что Дьявол в своей великой мудрости и милосердии поймет это и простит меня…
— Хасан, вас трудно оскорбить, — сказал я, — но я предупреждаю вас, поймите меня: ни один волос не должен упасть с головы этого синего.
— Я здесь всего лишь скромный телохранитель…
— Ха-ха! У вас хитрость и коварство.
— Нет, Карачи. Благодарю вас, но это не так. Я горжусь тем, что всегда выполняю принятые на себя обязательства. Таков закон, согласно которому я живу. Кроме того, вы не сможете оскорбить меня до такой степени, чтобы я вынужден был вызвать вас на поединок, тем самым позволив вам выбрать род оружия. Нет, этого никогда не будет. Я не восприимчив к вашим оскорблениям.
— Тогда остерегайтесь, — покачал я головой. — Ваш первый ход против веганца будет и самым последним.
— Если так записано в Книге Судеб, Карачи, то…
— И зовите меня Конрад!
Хасан замолчал, а я поднялся и побрел прочь, обуреваемый тяжелыми мыслями…
На следующий день все мы были еще живы. Мы быстро собрались и прошли около восьми километров, прежде чем произошла непредвиденная задержка.