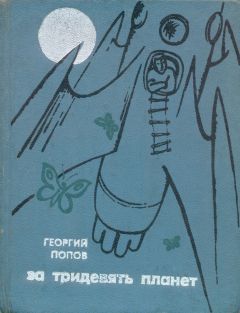— Есть, пить — не дрова рубить, — со значением сказал Иван Павлыч и, не дожидаясь, когда его пригласят персонально, водрузил свое тело во главе стола.
— Садись, братик, здесь… Тетка Лиза, что стоишь? В ногах правды нет.
— Только встретили и уже провожать, — вздохнула Пелагея.
— Служба! — крякнул дед, подмигивая капитану.
— Служба, служба! Что ты понимаешь в службе? — усмехнулась Макаровна.
— Я, бывалыча, в девятнадцатом…
Фрося опять не удержалась:
— У нас удивительный дед! Он всех видел и все помнит. — Она посмотрела на него пристально и вдруг спросила: — Дед, а дед, а тебе, случаем, Карла Маркса не доводилось встречать?
Но деда Макара это не смутило.
— Карла Маркса — нет. А Василия, это самое, Иваныча — как тебя, ответил он, не моргнув глазом. — И Михаила, это самое, Иваныча… Даже за ручку здоровкался. Он так и сказал: «Перво-наперви, это самое…».
Как водится, говорились тосты. За капитана Соколова, виновника торжества, за хозяек — старую и молодую (имелись в виду Пелагея и Фрося), за гостей, за космос, не помню, за что еще… Когда дело дошло до космоса, Шишкин, гляжу, как-то приосанился, встал и простер руку над столом. Все притихли, ожидая, что он скажет.
— За Эдика… за Эдуарда Свистуна, первого космонавта колхоза «Красный партизан», который с невиданной до сих пор сверхсветовой скоростью полетит…
— К новым мирам! — подхватил Кузьма Петрович.
И тут разговор принял, что называется, космический оборот. После того, как все выпили и закусили кто чем — одни яичницей на свином сале, другие прошлогодними солеными груздочками, — дед Макар спросил:
— А шибкая она, скорость-то?
— Какая, дед? — не понял Кузьма Петрович.
— Ну эта… сверх… сверх…
— А-а! Шибкая, дед, шибкая. Считай триста тысяч километров семьсот метров!
— В день? Гм… Ежели в день, то многовато как будто.
— В день! В секунду.
Дед Макар чуть не подпрыгнул до потолка — до того ошеломила его эта новость.
— В секунду?
— А ты думал! Темнота! Не веришь, спроси у внука. Он-то знает, поддержал механика Шишкин.
— Да, дед, представь себе, — поддакнул и капитан Соколов.
Наступила тишина. Все, наверное, прикидывали, много это или не слишком много — триста тысяч километров в секунду, — неопределенно пожимали плечами, покачивали головой или делали другие столь же привычные движения.
Все же дед никак не мог взять в толк. Пристал к Шишкину, и хоть ты что с ним делай. Ежели, говорит, ему на той ракете в дола (это десять-двенадцать километров) или в лога (это двадцать пять километров), то за сколько же он долетит? Шишкин взял шариковый карандаш и блокнот, хотел было высчитать, но сбился, и махнул рукой. В конце концов все решили (и дед Макар с этим согласился), что в дола и лога лучше на газике или тракторе с прицепом.
Разумеется, не было недостатка и во всякого рода благих пожеланиях.
— Ты вот что, Эдя, — дышал мне в самое ухо дед Макар. — Ты перво-наперво с беднотой свяжись. Богатеи — они, понятно, к тебе с лаской, потому как герой, а ты ни-ни!
— Будь здоров, дед. Эдя не подкачает! — успокаивал я бывшего чапаевца.
Но проходила минута-другая, снова наливались чарки и провозглашались тосты — то ли за военноморскую, то ли за гражданскую авиацию, не помню, дед вместе со всеми опорожнял свою посудину, закусывал селедочкой с лучком и опять начинал дуть в ухо, как в рупор:
— Ты вот что, Эдя… Ты перво-наперво с беднотой… Беднота — это, брат, такой народ… — Ну, как будто он всю жизнь только и делал, что «Блокнот агитатора» читал.
А после того, как внук помахал ручкой и отбыл для дальнейшего прохождения службы, дед Макар вообще помешался на космосе. И дома и в гостях — всюду один разговор: космос да космос… Раза два заходил в редакцию местного вещания, здоровкался с каждым в отдельности, усаживался чин чином, как полагается, и начинал разъяснительную работу.
— Я полагаю, там, — кивок вверх, — есть жизнь. Если бы там, — опять кивок вверх, — не было этой самой жизни, то, скажите на милость, зачем нам туда рваться? Что мы там, сапоги забыли? — И дед Макар, страшно довольный «сапогами», заливался детским смехом.
— Ну, дед, после Эриха Деникена это уже не открытие, — мягко замечали хлопцы.
— Ты мне своим Деникеном не тыкай! — вскипал дед Макар. — Я этих Деникенов в гражданскую как тебя видел. И ничего, жив остался.
— Так этот же Деникен совсем другой Деникен. Этот же Деникен ученый, мировая голова, можно сказать… Ты почитай, что он пишет. «Есть жизнь!» И скажет, честное слово… Там, — кивок вверх, — этой самой жизни столько, что от нее никому житья нету! — И хлопцы зачитывали тот самый отрывок из журнала, который уже известен читателю.
Слушая, дед Макар все ближе и ближе подвигался к микрофону, надеясь, что его опять запишут «на интервью», но — увы! — счастливый случай не повторился.
Бывали и дельные советы, не без того. Однажды, это было за день до отъезда, я совершал обычную утреннюю пробежку. По улице Крутишинской, гляжу, наперерез мне чешет дед Макар — только посошок в руке мелькает. Я сбавил скорость, перешел на шаг, остановился. «В чем дело?» — думаю. Дед Макар между тем тоже остановился, перевел дух и, тыча посошком куда-то в небо, заговорил: — И главное, когда прилетишь, ребятню к аппарату не подпускай, чуешь? А то отвинтят какую-нибудь гайку, и шабаш, обратно не воротишься.
О ребятне, признаться, я и забыл, то есть не то чтобы совсем забыл, а как-то в мыслях не допускал, что и там, на тех планетах, придется страдать от ребятни.
Ну, здесь куда ни шло, думаю, а там-то, там-то…
Я схватил руку деда Макара и потряс ее с чувством, совершенно искренним, кстати сказать, и побежал дальше, размышляя о том, как много неожиданного и непредвиденного ждет нас на других планетах.
V
День отъезда был для меня особенно волнующим [2].
Я встал рано, вместе с теткой Соней, и обошел дорогие места. Надо заметить, что этот день мы держали в тайне, чтобы не вызывать волнений в публике, но многие догадывались или предчувствовали (у нас ведь умеют и предчувствовать) и смотрели на меня с обостренным, я бы сказал — жадным любопытством.
— Что ни свет ни заря? — спросила тетка Соня, разжигая дрова в печке.
— Не спится что-то, — сказал я.
Тетка Соня понимающе покачала головой и, потоптавшись у шестка, продолжала:
— А может, блинов испечь?
Я сказал, что от блинов не откажусь, и… вышел из дому. Но за воротами свернул не налево, а направо, потом пересек улицу и подался через березовую рощу…
Куда? Я и сам не знаю. Мне было все равно куда идти, просто хотелось идти и идти, ощущая под ногами привычную почву, то есть землю, вдыхая привычный воздух, пронизанный утренней свежестью, и видя чистое небо, стройные березки с резными листьями и кусты желтой акации — словом, все, что красит нашу планету.