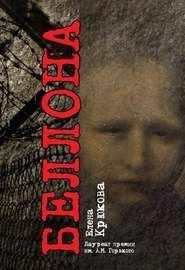Ознакомительная версия.
На глазах у туристов и гида он рванулся к Марысе, обхватил ее руками, облапил, как медведь, прижимал к себе до хруста костей, покрывал поцелуями ее влажное загорелое лицо, ее пьяные плачущие глаза, ее смеющийся рот, и шептал, и бормотал: ты не забудь меня, ты только не забудь меня, ну я прошу тебя, ты помни меня, помни, помни, помни меня.
И черноволосая официантка, прижав ладонь ко рту, смотрела, как маленький раскосый иностранец с фотоаппаратом, как сумасшедший, целует, целует, целует донну Марию Даллес, не может оторваться, как они обнимают друг друга, как прощаются навеки.
Если Юрий начинал думать об этой встрече -- он зажмуривался, не мог смотреть. Фотограф, не снимай больше мир! Он слишком ярок для тебя, тусклого и скучного! Дикое солнце висело перед глазами, ходило взад-вперед медным начищенным маятником, причиняло зрачку боль. Он открывал глаза -- мир мотался перед ним мокрым ярким бельем на веревке, и сквозь колыханье он видел смерть -- ту, что приходит ко всем, и каждый горделиво и наивно думает: ко всем придет, а ко мне не придет.
Марыся. Марыся. Марыся! Трясясь в автобусе, в поезде, летя в самолете, вышагивая по осенним полям в старенькую школу на окраине села -- фотографировать детей первого сентября, он повторял ее имя. Он вел по раскисшей шоколадной грязи излизанной дождями проселочной дороги машину, свою разболтанную, погремушкой грохочущую "Ниву", и шептал, шептал имя -- заклинаньем, молитвой, ругательством, божбой. Его живая кровавая сердцевина сполна уместилась в шесть маленьких букв; он боялся -- звуки рассыплются от неверного выдоха, и жизнь по капле вытечет из него и не вольется обратно.
Марыся. Тишина. Марыся!
Он во сне так бредово, пьяно чужим именем окликал жену -- она гневно выпрастывала толстую руку из-под лоскутного одеяла, ударяла его по голому потному плечу тяжелым кулаком: "Зазнобу зовешь?! Кобель! Побалуй у меня!"
"Как ты не умерла тогда, как ты не умерла", - говорил, шептал, повторял он умалишенно, не зная, не думая, не чувствуя веса, смысла и боли слов. Марыся ангелом стояла у него за плечом; он мог поклясться, что видел белые лилейные крылья за ее спиной.
Ангелы только мертвые. Мертвые только ангелы. Почему же ты живая? И почему я встретил тебя?
Ночью он видел сны. Пламя вставало до неба. Взлизы огня метались, взмывали и покорно приникали к земле. Огонь, смеясь, целовал жнитво, сухую стерню. Огромная изба, куда загнали всех жителей деревни, догорала, но хищное алое пламя все еще страшно, органно гудело. Нельзя было кричать -- крик сгорел. Нельзя было молчать -- молчанье черно-белой пятнистой коровой ушло, глухо, сдавленно мыча, далеко, за поля, за реку.
Громадный гул висел и плыл в воздухе. Единственный звук, оставшийся здесь и сейчас. Живой не вынес бы его. Мертвый плыл вместе с ним и уплывал за тучи, за черное летящее руно страшной и сладкой гари. Верхушки елей и берез гнулись под холодным ветром, кланялись горю. Лето? Осень? Когда ты горела, девочка? Когда сгорела? Когда ты не сгорела? Когда ты не умерла?
Пламя, в пасти его изба, тут раньше была сельская библиотека. Огонь, в глотке его мертвецы -- гулко, густо гудя, полыхает печь крематория. Освенцим! Огонь! Звезда! Праматерь, из нее все же и стало быть, в нее же все и уйдет. Когда? Когда владыки подожгут маленькую Землю, кошачий клубок в ночи, и котенок подожмет хвост от страха, в угол забьется за печь, и моря-океаны мигом превратятся в одну высыхающую на лютом преисподнем морозе слезу?
"Марыся, отзовись", - просил он, и ему чудилось, что из тумана, из заоконной хмари и тоскливых деревенских сумерек наползает невнятный, неясный звук, плывет дрожащим пятном, бьется больным зайцем, пойманным в силок сердцем. Юрий клал руку на сердце, и оно билось под ладонью -- нежное, глупое, детское.
Мы все дети. Мы только притворяемся взрослыми. Боимся сказать себе: мы навсегда остаемся там, откуда нас вынимает властная рука предсмертного ветра. Мы -- дети, и все детские клятвы, которые даем мы себе, мы не держим.
ИНТЕРМЕДИЯ
ДЕТСКИЙ БАЛЕТ
Ажыкмаа впервые стояла на такой сцене.
Сцена огромная, слишком огромна, безбрежна была ее деревянная сковородка; сцена давала крен то влево, то вправо, и Ажыкмаа взмахивала руками, еле удерживаясь на скользящих, плывущих вдаль досках. Третьего звонка еще не было, и кулисы не пошли, почему же они уже начали?
Она расставила руки, пошевелила пальцами, взмахнула руками широко, от плеча, и мягко заколыхала ими в воздухе, наподобие крыльев. Руки потекли талой водою, нежными ручьями. А потом руки легли и стали терзать, рвать одеяло. Собирать на одеяле невидимых жуков, бабочек, личинок. Одеяло балетное, казенное, его надо обязательно сдать после спектакля театральному кастеляну, в бутафорскую. Оно может запросто превращаться в легкую накидку Сильфиды, в сумасшедший газовый шарф Жизели.
Ажыкмаа умирала.
Она танцевала свою смерть.
Она помнила, что уже станцевала смерть дочери; и смерть мужа; и еще много всевозможных смертей, на них так богат пышный, роскошный спектакль жизни. Но Жизель! Ее смерть надо было суметь станцевать. Как часто ей режиссеры давали эту роль! А тогда все ее милые, любимые были еще живы.
Режиссеры одобрительно говорили после балета, покуривая в гримерке: "Наша храбрая Ажыкмаа так превосходно танцует смерть. Залюбуешься. Век бы глядел".
Храбрая Ажыкмаа! Вытяни руки по одеялу. Прозрачная ткань гаснет. Гаснут софиты высоко над головой. Ты боишься батмана, боишься тридцати двух фуэте, но не бойся. Сегодня, сейчас ты все сможешь. И стараться не надо.
Она слышала легкий саранчовый шорох зала; слышала, как посмеивается в первом ряду ребенок, хрустит фольгой, может быть, жует шоколадку. Ника! Где ты? За кулисами ее нет. В зале тоже. Дима! Ты где! Огромная декорация наползает, как танк. Станцевать мир, это так просто. Станцевать войну - вот где искусство.
Плечи мерзли. Она обхватывала себя голыми длинными, как водоросли, руками за плечи. Худые, торчащие. Как из Освенцима, всегда говорил ее муж. Из Освенцима! Это где-то далеко, в Чехии, вроде. Или в Польше. А может, в Германии. Короче, в Европе. Она так плохо разбирается в географии. Там во время войны с немцем был концлагерь. Ну и что, концлагеря и у нас были. Да не один. Целая волчья стая лагерей. На Печоре. На Колыме. На Уссури. На Ангаре. На Соловках. Даже на островах Новой Земли - и то лагеря были. Особые, закрытые. Никто оттуда живым не вернулся. А немцы? Что немцы! У них была программа. Приказ Фюрера.
Их Фюрер, наш Сталин очень любили этот балет, "Жизель". Про любовь и смерть.
Утирали, умиляясь, позорные для крепкого мужика слезы.
Ознакомительная версия.