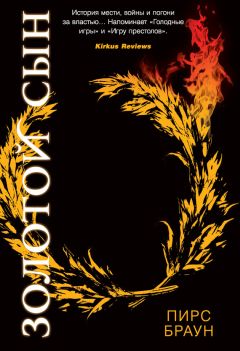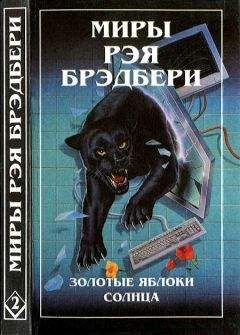– Да бывает и хуже…
– Хуже усов? Вряд ли! Даксо пытается отрастить усы, ты в курсе? Не знаю, всерьез или это очередная шутка! – беззаботно смеется Мустанг, присаживаясь на стул рядом со мной. – Бог с ним, его сестры сами разберутся! Отвратительное место, – произносит она, глядя на шахту и Котелок. – Я написала поправку к закону, которую реформаторы попытаются провести через совет. Тогда департаменту энергетики придется сложить с себя полномочия, Бюро стандартов подвергнется реструктуризации, и эта скотобойня наконец изменится! Ты видел, какие у них магазины? Запасов еды хватит лет на семь, но они все время заказывают дополнительные поставки! Просмотрела отчетность – все ясно! Мэры шахт просто снимают сливки, скорее всего, перепродают продукты на черный рынок. Кто на них обращает внимание, на этих медных! Наверняка подмазали кого-то из серебряных или золотых и теперь спокойно обстряпывают свои делишки! А тут люди недоедают! Сплошная коррупция! – Виргиния морщит нос, отколупывая кусочек краски от стула. – Зачем мы сюда прилетели? – внезапно посерьезнев, спрашивает она. – Что-то случилось с моим братом?
– Это шахта, где та девушка спела запретную песнь, – помолчав, говорю я.
– Бедные люди…
Она смотрит на них широко распахнутыми глазами, а потом оборачивается ко мне, терпеливо ожидая продолжения, но я не могу подобрать нужные слова, могу лишь показать.
– Пойдем, – беру я Виргинию за руку и встаю.
Никогда еще мне не было так страшно.
По ночам в Ликосе темно, хоть глаза выколи. Освещение отключают, чтобы алые не спятили от круглосуточного дневного света. Рабочие ночной смены ткут шелка, разрабатывают шахты, но здесь, в широком тоннеле, все тихо и неподвижно, только на видеодисплее мелькают кадры старых записей терраформирования да где-то вдалеке жужжат аппараты проходчиков. Жутко потею, хотя тут прохладно.
Мустанг молча идет рядом. С тех пор как мы, надев гравиботы и плащи-невидимки, спустились в зал Общины и пошли среди заснувших прямо на столах и ступеньках эшафота пьяных, она не произнесла ни слова. Чувствую ее напряжение и пытаюсь угадать, о чем она думает.
Сердце бешено колотится в груди, когда мы входим в поселок Лямбда, где прошла моя юность. Здесь все будто стало меньше, потолки ниже. Веревочные мосты и подъемные блоки кажутся похожими на детские игрушки. Видеоэкран допотопной модели, с которого когда-то на меня смотрело лицо Октавии Луны, уже дает сбои. Мустанг озирается по сторонам и выключает плащ-невидимку. Она разглядывает мосты и дома, как будто оказалась в сказочной стране. Мне и в голову не приходило, что золотых могут заинтересовать такие простые вещи.
Поднимаюсь по каменным ступеням лестницы, ведущей в дом моего детства. Вот только теперь у меня слишком большие ступни, совсем забыл про гравиботы. Мустанг свои уже отключила и шагает за мной следом, отряхивая с рук пыль. Мы останавливаемся у тонкой железной двери перед выдолбленным в стене помещением, которое когда-то было моим домом.
– Дэрроу, – едва слышно шепчет она, – откуда ты знаешь, куда идти?
– Ты просила впустить тебя. – Я смотрю на нее, чувствуя, как дрожат руки.
– Да, просила, но…
– Ты готова пойти со мной до конца?
Она явно предчувствует, что будет дальше, а может быть, уже давно догадалась. Догадалась, почему я такой странный. Почему иногда использую непонятные ей выражения. Почему моя душа всегда витает где-то далеко.
– Готова, – отвечает она, глядя на ладони, покрытые красноватой пылью.
– Если ты и правда готова, то просмотри эту запись, – говорю я, протягивая ей видеокуб, – и приходи, когда досмотришь до конца. Если ты решишь уйти, я пойму тебя.
– Дэрроу…
Крепко целую ее на прощание. Она цепляется за меня, наверное, чувствует, что при нашей следующей встрече все изменится. Мягко отстраняю ее, глажу по щеке. Ресницы Виргинии начинают трепетать, она вот-вот откроет глаза, и тогда я делаю шаг в сторону, поворачиваюсь к двери и замираю на пороге.
Мне приходится наклониться, чтобы войти в дом. Здесь все такое маленькое. На первом этаже ничего не изменилось: все тот же крошечный железный столик, пластиковые стулья, маленькая раковина, в сушилке сохнет глиняная посуда, на плите стоит мамин любимый заварочный чайник. На полу лежит новый коврик. Явно работа неопытного ученика. На месте отцовских ботинок, у самой лестницы, там где когда-то стояли и мои, вижу чьи-то чужие. Секунду, нет же, это и есть мои ботинки! Потертые и изношенные! Неужели у меня и правда были такие маленькие ноги?!
В доме совершенно тихо. Все спят, кроме нее.
Чайник с шипением закипает, вскоре начинает булькать вода. Раздаются шаркающие шаги по каменному полу. Я едва сдерживаюсь, чтобы не убежать, но ужас сковывает меня, и я в страхе наблюдаю, как она приближается ко мне. Вот она уже в соседней комнате, ненадолго остановилась на последней ступеньке. Смотрит мне в глаза, ни на секунду не отводя взгляда. Словно не замечает моего золотого тела. Молчит. Меня охватывает паника. Проходит секунда. Три секунды. Десять секунд. Она не узнает меня. Я – убийца, проникший в ее дом, мне не следовало приходить. Я – заблудившийся золотой, заглянул сюда из любопытства! Сейчас еще можно уйти, убежать отсюда! Моя мать не должна знать, в кого превратился ее сын!
И тут она спускается с последней ступеньки и медленно подходит ко мне. Прошло четыре года, а она постарела лет на двадцать. Тонкие губы, обвисшая, испещренная морщинами кожа, припорошенные сединой волосы, крепкие, но узловатые, словно корень имбиря, пальцы. Протягивает правую руку к моему лицу, не сводя с меня затуманенных слезами глаз, и мне приходится встать на колени. На плите истошно свистит чайник. Мама пытается дотронуться до моего лица второй рукой, но не может раскрыть ладонь. Рука остается искривленной, пальцы сжаты в кулак – так же сжимается сейчас мое сердце.
– Это ты, – тихо произносит она, словно боясь спугнуть меня: вдруг я окажусь ночным видением. – Это ты, – невнятно бормочет она изменившимся голосом.
– Ты меня узнала? – хрипло спрашиваю я.
– Ну как же я могу тебя не узнать? – улыбается она, но левая половина лица ее не слушается.
Жизнь жестоко обошлась с ней в отличие от меня. Она перенесла инсульт. Сердце разрывается, когда я вижу ее дряхлое, измученное болезнью тело и думаю о том, что меня не было с ней рядом, когда ее сердце разбивалось на тысячи осколков.
– Я всегда узнаю тебя, повсюду, – шепчет она, целуя меня в лоб. – Мой мальчик, малыш Дэрроу!
– Мама! – протягиваю к ней руки, по щекам струятся горячие слезы, и я вытираю их рукавом.