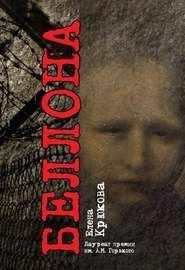Ознакомительная версия.
1 февраля 1943
Над нами издеваются, нас бьют. Плохо кормят. Женщины плачут по ночам, кто тихо, кто навзрыд. Мы знаем, что все мы однажды сгорим в страшной печи, она называется крематорий, только не знаем, когда.
Ко мне под бок ночью подлезает рыжий мальчик. Он такой рыжий, аж красный. Он шепчет мне: "Ника, я в тебя влюбился!" А я вижу, что он все держит за руку тихую девочку Лизу. А Лиза от него отворачивается. И берет за руку другого чернявого кудрявого мальчика, я не знаю, как его зовут.
И я говорю рыжему: "Рыжий, уйди! Мы все завтра умрем".
А он мне: "Я все равно в тебя влюбился. Мы убежим на свободу, и я на тебе женюсь".
А я ему отвечаю: "Мы никогда не убежим на свободу, нас застрелят сразу же, когда мы побежим. В беглецов стреляют".
А он молчит, ничего не говорит, только сильнее жмет мою руку и весь прижимается ко мне. Мне кажется, ему просто холодно, и он хочет согреться. И тогда я обнимаю его одной рукой, а другой глажу по кудлатой рыжей голове. И он закрывает глаза, у него по горячим щекам текут слезки, он дрожит и бормочет: "Мама, мама, заверни меня в одеяло, я весь замерз". И я понимаю, что он захворал и бредит.
И я выхожу из барака, набираю в пригоршню снега, растапливаю его в ладонях и эту талую воду приношу рыжему, попить. А он шепчет: "Мама, мама, Никитушка замерз, так замерз, все кишочки у него замерзли, все сердечко. Мама, Никитушка уже умер, и ему так хорошо на небесах, только очень холодно, очень, очень".
[нюрнберг]
Небольшой, обитый деревянными плахами, чисто вымытый зал дышит смолой, чернилами и торжественной скорбью: все состоит из углов, досок, скамей и трибун, а люди здесь - что люди? - так, живой антураж. Пошуршат, надоеды, черные тараканы, и уползут. А дом будет стоять, и зал - чистотой сиять.
Вранье. Любой дом можно разрушить. Взорвать. Расстрелять.
С землей сровнять.
Вся Европа в развалинах. Человек - такая ловкая юркая букашка, рабочая жизнеспособная скотинка: дай ему время, все отстроит. Заново возведет, опять родит. Неугомонный человечек. Рукава засучит - и вперед. То оружие на заводах собирает, снаряды и танки; то жирное белое масло в фольгу заворачивает, печенье фасует по хрустким пакетам. То смерть сам себе печет, то жизнь мастерит. И продает. Продает. Главное - продать.
Деревянная коробка наполнялась людьми. Скоро все скамьи, сиденья, стулья были заняты; люди сидели, за неимением мест, на деревянных голых ступенях. Это тебе не концертный зал, с красными коврами, с бархатными креслами. Иная тут музыка звучит.
Есть музыка смерти, как музыка жизни.
Люди за всю войну наслушались ее; чуть не оглохли.
А счастье быть глухим, слепым, хромым, немым - и все же - жить.
За столом - обвинители. В зале - обвиняемые.
Глаза людей глядят на них.
На тех, кто давал им смерть на завтрак, обед и ужин.
Кто впускал смерть в ящик радио, и она пробивала череп навылет.
Доказательства все предъявлены. Смерти выкрикнуты в лицо. Прокручены серыми, грязными, исцарапанными кинолентами. Брошены на столы судей сотнями тысяч обручальных колец, снятых с рук убитых евреев, миллионами вырванных изо ртов у поляков и французов золотых зубов, тоннами срезанных на парики женских волос - смешливые итальянки, суровые чешки, скуластые немки, румяные русские девки, где ваши косы?
Где жизни ваши, дети?
Полный враждебно молчащего народа зал уже видел этот серо-бело-черный кадр: лежит на земле мальчик, разбросал руки. Вместо ног у мальчика - кости, вместо рук - тонкие ветки. На ксилофоне ребер играет ветер. Только голова большая и круглая, и глаза глядят в светлое небо, и глаза моргают. Живой. Смотрит. Видит.
Мальчик видит в лицо свою смерть. И он не боится ее.
Так чего же боятся все эти люди, жирные и тощие, в цивильных пиджаках, в тюремных балахонах, в мундирах с отодранными погонами, в ряд сидящие перед прокурором и судьями на длинной, как жизнь, деревянной скамье?
Правильно, они боятся смерти.
Они, как дети, боятся ее.
Ребенок знает: умирает кошка, птичка, рыбка, и я тоже умру, шепчет он себе, весь дрожа от этого маленького и огромного открытия.
Читают приговор. Зал притих.
- Герман Геринг! Виновен. Приговаривается к смертной казни через повешение!
Глаза вспыхивают изнутри бешеным, неверящим светом. "Нет! - кричат глаза. - Я невиновен! Я ничего не знал о массовых убийствах! Я не подписывал приказа об окончательном истреблении евреев в Германии! Я не..."
- Иоахим фон Риббентроп! Виновен по статье... и еще по статье... и еще... Приговаривается к смертной казни через...
Глаза зажмурены. Если не видеть ничего, то можно ничего и не услышать. Руки зажимают уши. Нет. Зря. Слышно все, и даже легкий шум зала - люди говорят, говорят о них, обреченных. Риббентроп отнимает ладони от ушей. Открывает глаза. Глаза ушли глубоко под лоб, как у больного, у полоумного. Сумасшедшим взглядом обводит человек людей, что так ждут его смерти. Зачем ты - убивал? Зачем - ты убивал? Все аукнулось тебе. Закон войны. Победителей не судят - судят победители.
- Вильгельм Кейтель! Виновен по статье... Приговаривается к смертной казни!
Глаза стреляют вправо, влево. Глаза расстреливают публику. О да, это публика, и она пришла в театр, поглазеть на последних актеров. Германия, правда, мы хорошо играли и пели? Германия, мы дети твои. Европа! Не покинь нас! Мы и твои дети тоже! Ты разве не видишь, мы дети! Пожалей нас! Мы такие маленькие! Мы... так хотим... жить...
- Альфред Йодль! Виновен! Приговаривается...
Глаза летят вперед. Опережают слова приговора. Зачеркивают их. Уничтожают. Убивают.
Убить можно глазами, знаете ли вы это, люди?!
Не знают. Молчат. Переглядываются. Глядят на Йодля, а Йодль уже мертв.
Глаза, оглянитесь назад. Что видите? Штабеля трупов?
Песчаный, травяной, каменный ковер Европы, устланный дровами мертвых тел?
Глаза вскидываются, судорожно ощупывают зал. В зале - русские. И за страшными столами, устланными чистыми скатертями, где графины с водой, чтобы сухую прокурорскую глотку промочить, бумаги, ручки и чернильницы, - тоже русские; они одни из главных обвинителей. Их страна, говорят, больше всего пострадала в войне. Чепуха. Больше всего немцы убили евреев. Потому что евреи - это мусор мира. Эта нация не должна жить. Убиваем же мы клопов и комаров. Каждого еврея... старика, ребенка... плод в брюхе у матери...
Глаза наталкиваются на глаза в зале.
На Йодля смотрит, глаза в глаза ему, девушка с прической "волна".
Беретик сполз на кудрявый затылок. Нежные, иссиня-черные локоны свисают на щеку.
Ознакомительная версия.