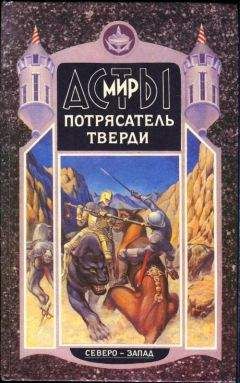Вот и кладбище. Промерзлое, стылое - к вечеру начал забирать крепкий мороз. Меня даже сквозь теплую шинель пронизывало. Слегка поеживаясь, я добрался до той могилы, возле которой исчезли следы оборотня.
Теперь - поднять плиту. Но до чего же она тяжела! Нет, только пальцы скользят, чуть ногтей не обламываю. Мне одному не справиться. Я растерянно огляделся вокруг. И заметил чью-то тень, скорчившуюся поодаль, за одним из покосившихся памятников.
- Эй ты, кто там? - Я на всякий случай нашарил рукоять "Вальтера". Выходи!
Из-за памятника поднялся в полный рост волчий человек - наш немецкий Маугли. Вид у него был робкий и настороженный.
- А что? - проговорил я. - Ты жизнь свою прожил в дикости, с волками, и силу, наверное, накопил, какая обычному человеку и не снилась. Иди сюда.
Он непонимающе на меня взглянул. Я как можно ласковей поманил его пальцем.
- Комме, комме... - сказал я, вылавливая в памяти какие-то искаженные крохи немецкого. Он понял и подошел.
- Подними плиту, - попросил я.
Он только глазами на меня похлопал. Я наклонился и жестами показал ему, что надо сделать. Он понял. И отворотил плиту на удивление легко - словно газетку поднял.
Так я и думал! Вот оно, под плитой... Но что это? Оно живое и шевелится. Господи, два новорожденных младенца - серых, синюшных, непонятно, в чем жизнь теплится. Да они замерзнут на таком холоде! Я хотел снять шинель, укрыть их - но жалко стало, уж больно шинель хороша: новая, ладная, долго еще второй такой не будет. Я стоял, растерянно глядел на младенцев - и не мог себя преодолеть, не мог пожертвовать своей шинелью. К счастью, мой взгляд упал на юродивого.
- Снимай свои лохматые обноски! - сказал я. - Тебе они все равно ни к чему и гроша ломаного не стоят, а детей спасут. - И, не дожидаясь, пока он меня поймет, я содрал с него лохмотья и укрыл младенцев.
- Вот так-то лучше, - усмехнулся я.
- А, вот ты где, - раздался голос врача. - Опять удрал разгуливать?
Это он обращался к юродивому. Тот при виде врача явно обрадовался. Врач быстро заговорил с ним по-немецки, и волчий человек тоже в ответ что-то залопотал.
- Как вы съездили? - спросил я. - Есть результаты?
- Есть, - ответил врач. - Все расскажу по порядку. - Он подошел к могиле и внимательно в нее поглядел. - Только зря моего подопечного раздели, - сказал он. - Во-первых, им не может быть холодно, потому что лежат они на теплом навозе, который греет лучше любой печки. Видите, прямо дымится? Во-вторых, они не могут замерзнуть, потому что для тепла им вполне достаточно собственной шерсти.
- Какой шерсти? - удивился я. - У младенцев?
- Смотря какой младенец, - ответил врач. - У волчат всегда шерсть, как же иначе.
Я опять взглянул в могилу. И точно - не два человечьих детеныша, а два волчонка в ней лежат и тычутся друг в друга носами. То-то с самого начала они показались мне какими-то серыми - это я в сумерках, да от внезапности, да с перепугу, видно, обознался...
Встрепенувшись, я проснулся. Одурелый после выпитого, а еще больше - от увиденного сна, я не сразу сообразил, что дежурный стоит в дверях, осторожно покашливая и постукивая согнутым пальцем по косяку.
- Что? - спросил я. - Три часа прошло?
- Не совсем. Нескольких минуток вам не хватило. К телефону вас, из райцентра. Из нашего управления МГБ.
На ходу приходя в себя, я поспешил к телефону.
- Алло, это ты, участковый? - послышался довольный голос оперуполномоченного. - Ну, могу тебя поздравить. Ответственные высокие товарищи рассмотрели твои предложения и нашли их весьма разумными. Мы составили список из семи человек, подходящих под твои характеристики.
- Продиктуете мне список со всеми данными? - спросил я.
- Зачем? Мы прямо сегодня всех семерых и возьмем, - булькнул он в трубку.
- Думаете, кто-нибудь да сознается? - спросил я, не очень еще вникая в смысл нашего разговора.
- У нас все сознаются, - весело ответил опер. - И незачем разбираться, чье признание будет самым правдивым. Все свое получат. И район чище будет. Новых людей поставим. Ваш местный секретарь партии тоже в этот список включен - согласно личному твоему пожеланию! - Он опять булькнул, очень довольный своей шуткой. - Да и врача подметем.
- Погодите! Его-то за что? Ведь ясно, что он не оборотень!
- Ну, во-первых, не очень это и ясно. Твои доводы в пользу его невиновности слабее прочих твоих заключений. Здесь ты натяжечки допустил, в отличие от остального. А во-вторых, мы тут его дело как следует подняли...
- И?
- И оказывается, отец-то у него был преподавателем в привилегированной гимназии, где училась самая что ни на есть белая косточка. И преподавал он не какую-нибудь математику или русский - богословие. А потом, и сам он штучка хорошая. Говорил он тебе, что иностранные языки знает?
- Сказал, чуть-чуть знает немецкий.
- Как же, чуть-чуть! Он знает отлично немецкий, английский и - похуже французский. Где их выучил, не указывается. Думаю, набрался он всего этого у тех самых врагов народа, которых мы еще в тридцать четвертом разоблачили. Чувствуешь, какие связи налаживаются? И зачем, скажи, ему - образованному человеку, хорошему специалисту - сбегать в глухое захолустье, в такой район, как наш, где находятся склады правительственного назначения? Улавливаешь?
- Улавливаю. - Моя мысль вдруг заработала необыкновенно четко. - Вот что, мне все равно надо его навестить, узнать о результатах поездки в Москву. Я прямо сейчас к нему выйду и просижу у него до вашего прибытия, чтоб он не сумел что-нибудь выкинуть. Прислежу за ним.
- Молодец, - одобрил оперуполномоченный. - Верно понимаешь свой долг. Действуй! И он повесил трубку.
Я постоял у телефона, прикидывая расклад по времени. Сигнал о затевавшемся самосуде над инвалидом я получил немного раньше десяти. Врач простился со мной и отбыл в Москву приблизительно в половине двенадцатого, немного позже. Сейчас около семи. В общем, пять часов выходит. Пяти часов ему, пожалуй, должно было хватить на все дела. Значит, он вот-вот будет, если уже не вернулся. Домой сразу пойдет или сперва ко мне заглянет? Может, сначала ко мне, а может, забежит домой на пять минут перекусить. В любом случае он скоро будет здесь, и имеет ли мне смысл к нему идти? Арестовывать его придут не раньше девяти, а может, и в одиннадцать-двенадцать. Во-первых, с арестами только попоздней выезжают, как правило. Во-вторых, с него не начнут, зная, что он мог еще и из Москвы не вернуться и что я за ним приглядываю. Начнут с других. За ним могут и в три-четыре ночи пожаловать! А мне, значит, торчи у него все это время? Ничего не поделаешь... Выходит, в любом случае несколько часов есть? А мне-то не больше часа и надо. Рискнем! Сон, только что мне приснившийся, никак от меня не отлипал, словно пиявкой присосался к мозгам. Больше всего меня подавляло, что он как бы высвободил нечто, смутно бродившее в моем воображении, неуловимо важное и не желавшее становиться в стройный ряд со всем другим.