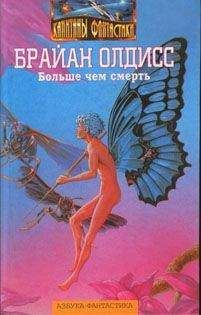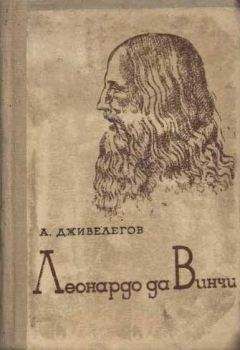— А почему нет? Разве ваши устремления сами по себе не греховны? Вы же признаете свою вину, не так ли?
Его необузданность приугасла. Почти задумчиво он произнес:
— Поскольку я атеист и не верю в Бога, не верю я и в грех — в том смысле, который вкладываете в это слово вы. Не верю я и в то, что страсть к открытиям может оказаться причиной стыда. Но в вину я верю, о да! Подчас я думаю, что вина — это постоянное мое состояние, а возможно, в тайниках сердца, и всех остальных людей тоже. Быть может, религии были изобретены для того, чтобы избавить нас от этого состояния. Вина, а не возраст или непонимание, покрывает морщинами щеки, разлучает друзей и любовников. Но почему должно быть это состояние? Откуда оно берется? Детище ли оно современности? Отныне и впредь всем ли нашим потомкам не избыть вины? Ведь от поколения к поколению растет мощь человека. Столь многого мы достигли, но насколько большего достигнуть еще предстоит. Всегда ли должно нести в себе свершение червоточину вины? Или, может, вина изначально была условием человеческого существования, с первых дней мира, еще до того, как по всей Вселенной прокатилось, словно долгая дремота, время. Возможно, это имеет отношение к природе зачатия человека, к похотливому сближению мужчины с женщиной,
— Почему вы так полагаете? — перебил его я.
— Потому что в момент напряженного наслаждения, даруемого нам зачатием, люди сбрасывают с себя прочь свою человечность и уподобляются животным — безмозглым, слюнявым, сопящим, хрюкающим, спаривающимся… Моему новому творению суждено всего этого избегнуть. Ничего животного, никакой вины…
Он прикрыл рукой глаза и лоб.
— У вас весьма своеобразные взгляды, вряд ли человечество столь уж отвратительно, — сказал я. — Может быть, поэтому вы и не собираетесь ничего предпринять, чтобы спасти Жюстину?
— Я не могу пойти к синдикам. Не могу!
— Скажите хотя бы женщине, которая вас любит. Вы должны доверять друг другу!
— Сказать Элизабет? Я умру со стыда! Я не доверился даже Анри, а ведь он учился вместе со мной в Инголыптадте, когда я начинал свои эксперименты!
Нет, то, что я сделал, я должен сам и уничтожить. А теперь оставьте меня, кто или что бы вы ни были. Я сказал вам, Боденленд, то, чего не говорил никому, храните же это надежно, как могила. Я до крайности взвинчен, иначе бы я так не говорил. Отныне я буду вооружен — поостерегитесь поддаться искушению и злоупотребить моим доверием. А теперь, умоляю, оставьте меня.
— Отлично. Если вы не доверяете никому другому, тогда вы знаете, как вам надлежит поступить.
— Оставьте меня, прошу вас! Вы ничего не знаете о моих проблемах!
Постойте, вы не могли бы выполнить одно мое поручение?
— Не знаю!
Он выглядел несколько смущенным.
— По достаточно веским причинам, не знаю, в состоянии ли вы их понять, я хочу остаться здесь, в глуши, вдали от тех, на кого мог бы непредумышленно навлечь невзгоды и погибель. Передайте, прошу вас, в качестве объяснения пару слов моей нареченной, Элизабет Лавенца.
Все его движения дышали нетерпением. Не дожидаясь моего согласия, он вытащил из-под плаща письменные принадлежности; успел я там заметить и несколько тетрадей. Из одной из них он вырвал страницу. Отвернувшись, он прислонился к скале и нацарапал пару-другую фраз — с видом человека, подписывающего себе смертный приговор, подумал я.
— Вот! — Он сложил листок. — Могу я надеяться, что вы не станете это читать?
— Вне всякого сомнения. Я колебался, но он отвернулся. В мыслях он уже был где-то далеко.
В дом Франкенштейнов я отправился пешком. Это оказалось довольно внушительное строение, возведенное на одной из центральных улиц Женевы и выходящее на Рону. Я спросил, нельзя ли перемолвиться парой слов с госпожой Лавенца; слуга проводил меня в гостиную и попросил подождать. Быть тут!
Виктор, конечно же, был прав, дивясь, что же я такое. Я и сам уже этого не знал. Моя подлинная личность становилась все более и более разреженной. Вне всякого сомнения, в духе нашего века было бы сказать, что я претерпеваю временной шок; поскольку наша личность во многом построена и поддерживаема окружающей нас средой и условностями, этой средой и обществом нам навязываемыми, стоит только выбить эту опору — и сразу же личности начинает угрожать растворение. Теперь, когда я действительно находился в доме Виктора Франкенштейна, я чувствовал себя всего-навсего персонажем фантастического фильма. Довольно приятное ощущение. Обстановка гостиной была светлой и изящной. Откуда-то доносились голоса; я оглядывался по сторонам, изучая портреты, присматриваясь к инкрустации столов и стульев, чинными рядами выстроившихся вдоль стен. Казалось, комнату заливал какой-то особенный свет, превращая все вокруг именно в этот дом и никакой другой!
Я подошел к окну, чтобы получше разглядеть портрет матери Виктора.
Высокие многостворчатые окна во всю стену были распахнуты в боковой садик, который пересекали чистенькие симметричные дорожки. Я услышал, как где-то надо мной женский голос резко произнес:
— Пожалуйста, не упоминайте более об этом.
У меня не было ни малейших угрызений совести, что я подслушиваю.
Мужской голос ответил:
— Элизабет, милая Элизабет, ты должна так же всесторонне обдумать это, как и я! Прошу тебя, давай все обсудим! Скрытность погубит Франкенштейнов!
— Анри, я не могу допустить, чтобы ты сказал хотя бы слово против Виктора. Нашей линией поведения должно быть молчание! Ты — его ближайший друг и должен действовать сообразно этому.
Дразнящие воображение обрывки разговора, не правда ли?
Осторожно выглянув наружу, я увидел, что в сад выходит балкон одной из комнат второго этажа. Вероятно, это была гостиная Элизабет. Я уже не сомневался, что слышу ее беседу с Анри Клервалем.
Он сказал:
— Я уже говорил тебе, каким скрытным был Виктор в Ингольштадте.
Поначалу я думал, что он повредился умом. А потом месяцы этой, как он предпочитал ее называть, нервной горячки… Тогда он то и дело заговаривал о каком-то изверге, демоне, который им овладел. Казалось, он от всего этого оправился, но сегодня утром в суде он опять вел себя столь же тревожным образом. Как старый друг — как более, чем друг, — умоляю, не думай о замужестве с ним…
— Анри, ни слова больше, а не то мы поссоримся! Ты знаешь, что мы с
Виктором должны пожениться. Я согласна, что временами он уклончив, но мы знаем друг друга с самого раннего детства, мы близки, как брат и сестра…
Она резко смолкла и продолжала уже другим тоном:
— Виктор — ученый. Мы должны с пониманием относиться к тому, что он предрасположен к рассеянности.