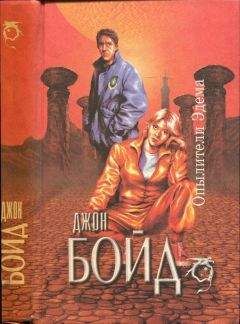Кипучесть Ганса куда-то исчезла.
— Если я выдвину эту гипотезу, вас не отправят на Флору, а вот меня поместят в Хьюстон. Что это за человеко-орхидейные семена?
— Эта моя идея — развитие вашей о человеко-зерне.
— Детка, это была пустая болтовня мужчины, который надеялся возбудить в вас интерес к своей персоне. Эта идея невозможна!
— Вы в своей Санта-Барбаре имеете дело с невозможностями, помните?.. Ганс, ради любви ко мне, напишите письмо Президенту. Скажите ему, что соединение неодинаковых молекул ДНК теоретически возможно — основополагающим трудом является теория Карон-Полино — и упомяните мое имя в качестве полевого цитолога, наилучшим образом подготовленного для проведения эксперимента на Флоре. Сделайте письмо убедительным. Пожалуйста, Ганс!
— Фреда, — он тяжело вздохнул, — я имею дело с невозможностями, это правда. Но президентов я убеждаю возможностями. Лично я ничего не знаю о ДНК орхидей Флоры.
— Часть семени есть на станции, в холодильнике моей оранжереи. Возьмите это семя и сформулируйте теорию. Когда Эйнштейн послал свое письмо, Рузвельт, вероятно, не знал, и, скорее всего, его нимало не заботило, что Е-МС2, но он поверил Эйнштейну.
— Но это будет ложным толкованием принципа служения науки нуждам человека!
— Самое время болтать об извращении понятия служения науки человеческим желаниям! Вы не стеснялись толковать превратно то, о чем были хорошо осведомлены, чтобы обольстить невинную девушку, но пасуете перед применением того же принципа, чтобы убедить бесчувственного Главу Администрации. Прекрасно! Тогда подумайте вот о чем, вы, псаломщик чистой науки: если жизнь течет таким образом, что она есть функция энтропии, то некоторые из мальчиков на клиросе вашего алтаря теряют благочестие, не интегрируя свою жизненную силу в единое энергетическое поле, как того требует ваша теория.
— Я никогда не думал об этом, — сказал он в подлинном изумлении. Какое-то время он молчал, ошеломленный тем, что на свете есть что-то, о чем он не думал, но резким взмахом руки он отогнал эту мысль. — Я не могу выставлять напоказ то, чем я занимаюсь, и не могу сворачивать целое направление науки и техники ради прихотей какой-то... какой-то… — он поборол слабую улыбку, — нимфоманиакальной омнифилианки. Я исповедую науку как некую абстракцию, и буду ее исповедовать до тех пор, пока кто-нибудь не покажет мне лучшую Истинную Веру.
Доведенная до крайности, Фреда перенесла образ красной орхидеи на голову Ганса Клейборга, и лепестки надежно скрепили его беспрестанно дергающиеся волосы. Теперь она могла читать его мысли: он отговаривался пустыми словами, чтобы отразить ее натиск, а сам придерживался мнения, что жизненная сила является частью единого поля. Но он обронил слова «покажет мне», и эти слова были той веревкой, которой она свяжет его по рукам и ногам.
— Ганс, — сказала она медленно. — Я могу доказать вам, что поэзия человеческого сердца содержит в себе столь же ценные истины, что и абстракции науки.
— Интересно, как же вы это сделаете?
— Поверните ключ вон в том замке, — сказала она, — и положите ваши зубы на письменный стол.
Фреда установила, что отец доктора Кемпбелла был настолько слаб, что сын не мог отождествлять себя с ним, поэтому Джимми сам стал образом своего собственного отца и сумел сыграть роль этого суррогата так здорово, что подавил подрастающего мальчика. Когда его проблема была, наконец, проанализирована, доктор Кемпбелл стал реагировать на проводимое ею лечение с воодушевлением. Вместе с образом отца постепенно исчез и его измученный вид, и то, что он потерял как психиатр, он приобрел как мужчина. На смену сопереживанию пришел характер.
По Истечении шести недель Джимми Кемпбелл вышел в отставку и оставил госпиталь, чтобы стать автомехаником. Его последним содействием Фреде было объявление ее неизлечимо больной.
— Это ничего не даст, Фреда, — сказал он, — потому что этим записям никогда не будет позволено покинуть пределы нашей психушки, но чего бы вы ни пожелали, вы от меня получите. Мы, гуманисты, должны держаться вместе.
Доктора Кемпбелла сменил фроммист по имени Уильямс, который продержался только две недели. Его философия любви и заботливого обхождения была так усилена и упрочена его пациенткой, что он был уволен из штата госпиталя за то, что добивался благосклонности сестры-сиделки, которая убежала от него и заперлась в шкафу для белья. Уилма, которая стала надежной линией связи с госпитальными радикалами, сказала Фреде, что он отправился в Голливуд, чтобы стать кинопродюсером.
Он ушел слишком быстро, поэтому не успел дать рекомендацию о высылке Фреды на Флору, он оставил несколько любопытных добавлений к ее библиотеке. Даже Уилма заинтересовалась «Источником одиночества» и попросила дать ей книгу почитать.
Ее фроммист был заменен фрейдистом, которого звали Смит; он принес ей экземпляр «Теории неврозов», который оказался для нее бесценным пособием, когда она стала помогать доктору думать, что он себя понимает; однако ему пришлось подать в отставку в силу специфических обстоятельств. При всей интенсивности концентрации внимания на ее психике, руководство госпиталя несколько упустило из виду ее соматику, и в середине третьего месяца пребывания в Хьюстоне вдруг обнаружилось, что Фреда уже два месяца беременна. Ее фрейдист Смит, который мало что знал вне сферы своей деятельности, отказался продолжать лечение, полагая виновным себя.
Ей, по крайней мере, он дал именно такое объяснение. Но у нее были на этот счет сомнения. Ее состояние становилось очевидным даже для приходящей уборщицы, и Смит поведал ей, что станет скульптором и посвятит остаток дней своих воссозданию в мраморе ее торса.
— Ни рук, ни головы, Фреда, — только груди.
Она сказала «до свидания» еще одному гуманисту, чувствуя, что он выбрал подходящий род занятий. У Смита были сильны эдиповы наклонности.
Затем Фреда понесла наказание — целых три недели у нее вовсе не было психоаналитика. По своим каналам Уилма держала ее в курсе дел. Госпитальное руководство, озабоченное тем, что она с такой скоростью лишала госпиталь психиатров-аналитиков, а также ее беременностью, в которой, как они полагали, повинен кто-нибудь из госпитальных служащих, вводило в штат какого-то павловиста из Кейп-Кода. Этот павловист, как поняла Уилма, создавал у своих пациентов условные рефлексы посредством какого-то непрерывного шокового лечения, до того неприятного, что они просто стремглав неслись к здравомыслию, лишь бы избавиться от такой терапии.
Это был доктор Уотс. Она побоялась спросить, как его зовут. Он был выходец из Новой Англии, топорно срубленный в духе готики Среднего Запада, рыжеволосый, с поджатыми губами, квадратным подбородком и бледно-голубыми глазами, которые смотрели сквозь нее, когда он заговорил. У него был властный вид капитана Блая, и ему было далеко за шестьдесят. Возраст не был помехой для эффективности применяемого ею метода воздействия, но беременность обратила мысли Фреды на ее внутренний мир. Умение осознавать чужие нужды не утратилось, их осознание просто оставалось немного в стороне, когда она пристально всматривалась в зревшее в ней произведение ее любви к Полу Тестону.