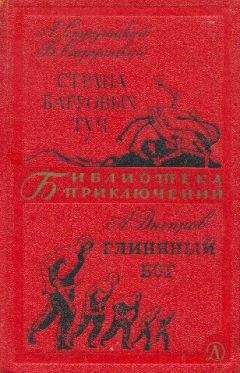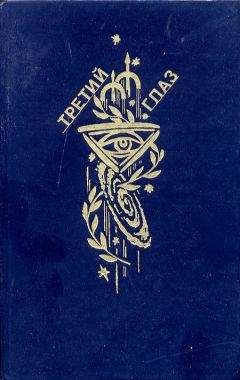— Совершенно верно. Слушайте.
Это был Крамм. Он подошел к Мэг и протянул ей свой транзисторный радиоприемник.
— Это мой свадебный подарок вам. Слушай, Боб, что ты наделал!
“…речи сейчас ни к чему! — послышалось из приемника. — Передовые ученые нашего времени активно включаются в борьбу против атомной опасности. Кто, как не мы, знает, что несет человечеству атомная война? Нельзя сидеть сложа руки и ждать, пока господь бог подарит нам мир. За него нужно драться, настойчиво, неутомимо, как Боб Вигнер”.
Передача транслировалась с какой-то огромной площади. Речи ораторов прерывались шумными возгласами, свистом, криками: “Долой ученых, работающих на войну! Не дадим в обиду Боба! Отстоим мир! Атомным и водородным бомбам — НЕТ!”
— Это сильнее водородных бомб, — сказал Крамм.
…Два автомобиля, один за другим, скрылись за брезентовым шатром. Мы с Краммом несколько минут смотрели им вслед. Потом я пошел в бар.
В углу за столиком, потягивая лимонад, сидел Роберт Скотт. Он мурлыкал какую-то песенку и что-то писал на листе бумаги.
— А, Вильям, салют! — бросил он весело. Настроение у него было прекрасное. — Вы знаете, что я сейчас рассчитал? Можно создать такую систему испытаний водородных бомб, которая будет совершенно неуязвима. Просто не существует алгоритма, по которому можно было бы нарушить эту систему. Стопроцентная надежность!
Я выпил полный стакан виски и подошел к нему:
— Ну-ка, покажи свою систему…
— Пожалуйста. Только вы не математик, и все равно ничего не поймете.
— Как-нибудь разберусь.
— Я вам объясню. Допустим, что в этом блоке находится взрыватель, который приводится в действие некоторой группой электрических импульсов…
Я взял лист бумаги, испещренный формулами, и сжал в кулаке.
Роберт Скотт поднял на меня удивленный взгляд.
— Я еще вам не рассказал…
— Мне все ясно.
Я рывком поднял Скотта со стула. Его выпученные глаза наполнились ужасом.
— Вильям, что вы… Я ведь… Право же, не надо… Я только…
— Ты понимаешь, щенок, что ты сделал?
— Ничего такого… Просто мне поручили…
— А если бы тебе поручили рассчитать, как лучше всего убить свою мать? — прошептал я, прижимая Скотта к стене. У меня появилось дикое желание задушить его.
Скотт яростно затряс головой.
— Нет… нет… нет… — цедил он сквозь зубы.
— А помогать убивать миллионы других матерей — это хорошо?
На мгновение он вывернулся и, забившись в угол, закричал:
— Почему вы ко мне пристаете? Я только математик. Я решаю задачи, и все. Я не имею к бомбам никакого отношения. Я даже не знаю, что это такое!
Я с презрением посмотрел на это тщедушное существо, сплюнул и пошел наверх упаковывать чемоданы.
Эти ежегодные встречи мы называли “капустниками” в память о далеких призрачных временах, когда мы были студентами. Уже стоит на Ленинских горах шпилястый университет, и еще пятиэтажный ковчег физфака давно обжит новыми поколениями будущих Ломоносовых и Эйнштейнов, физики и лирики давно спорят в благоустроенном зале со звуконепроницаемыми стенками, а мы не можем забыть сводчатые подвальчики под старым клубом МГУ на улице Герцена. И каждый год мы собираемся здесь, смотрим друг на друга и ведем учет, кто есть, а кого уже нет. Здесь мы разговариваем про жизнь и про науку. Как и тогда, давным-давно…
Так было и на этот раз, но только разговор почему-то не клеился. Никто не высказал ни одной интересной идеи, никто не возразил тому, что было высказано, и мы вдруг почувствовали, что последняя интересная встреча состоялась в прошлом году и что теперь мы можем только повторяться.
— Мы вступили в тот прекрасный возраст, когда идеи и взгляды наконец обрели законченную форму и законченное содержание, — с горькой иронией объявил Федя Егорьев, доктор наук, член-корреспондент академии.
— Веселенькая история, — заметил Вовка Мигай — директор одного “хитрого” института. — А что ты называешь законченным содержанием?
— Это когда к тому, что есть, уже ничего нельзя прибавить, — мрачно пояснил Федя. — Дальше начнется естественная убыль, а вот прибавления никакого. Интеллектуальная жизнь человека имеет ярко выраженный максимум. Где-то в районе сорока пяти…
— Можешь не пояснять, знаем без твоих лекций. А вообще-то, ребята, я просто не могу поверить в то, что уже не способен воспринять ничего нового, ни одной новой теории, ни одной новой науки. Просто ужас!
Леонид Самозванцев, кругленький маленький физик с уникальной манерой говорить быстро, проглатывая окончания и целые слова, вовсе не походил на сорокапятилетнего мужчину. При всяком удобном случае ему об этом напоминали.
— Тебе, Ляля, жутко повезло. Ты был болезненным ребенком с затяжным инфантилизмом. Ты еще можешь не только выдумать новую теорию пространства-времени, но даже выучить старую.
Все засмеялись, вспомнив, что Ляля, то бишь Леня, сдавал “относительность” четыре раза.
Самозванцев быстро отхлебнул из своей рюмки и улыбнулся.
— Не беспокойтесь, никаких новых теорий не будет.
— Это почему же? — спросил Мигай.
— Не то время и не то воспитание.
— Что-то не понятно.
— Я не совсем правильно выразился, — начал пояснять Ляля. — Конечно, новые теории будут, но, так сказать, в плане уточнения старых теорий. Вроде как вычисление еще одного десятичного знака числа “пи” или прибавление к сумме еще одного члена бесконечной прогрессии. А чтобы создать что-то совершенно новое — ни-ни…
Самозванцев сделал значительное ударение на слове “совершенно”…
Услышав, что у нас завязывается разговор, к нам начали подходить ребята с разных углов низенькой, но широкой комнаты.
— Тогда определи, что ты называешь “совершенно новой теорией”.
— Ну, например, электромагнитная теория света по отношению к эфирной теории.
— Ха-ха! — как бы очнувшись от дремоты, громыхнул Георгий Сычев. Он поднял алюминиевый костыль — грустный сувенир войны — и, ткнув им Лялю в бок, обратился ко всем сразу: — Этот физико-гегель хочет сказать, что Максвелл не есть следующий член бесконечной прогрессии после Юнга. Ха-ха, батенька! Давай новый пример, а то я усну.
— Ладно. Возьмем Фарадея. Он открыл электромагнитную индукцию…
— Ну и что?
— А то, что это открытие было революционным, оно сразу объединило электричество и магнетизм, на нем возникла электротехника.