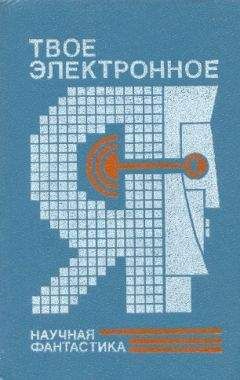— А что такое, по-вашему, творчество? — спросил Чугуев.
— Творчество?… Дайте подумать… Пожалуй, творчество — это акт рождения мысли, идеи или, как в моем случае, машины! — задумчиво сказал Морозов. — Удовлетворил?
— Да, конечно! Это я так, попутно. А вот, Борис Алексеевич, как он относился, паите, к другим взрослым?
— Об этом вы, пожалуй, сможете судить по следующему разговору. Однажды я спросил у него, почему он при мне так пренебрежительно говорит со своей учительницей. «Она врала, папа, что любит детей. Она никого не любит. Кроме того, она не представляет собой никакой человеческой ценности». «Почему, сынок, не представляет собой ценности?» «Я ее не уважаю. Ока не творец, не творческая личность». «Кого же ты считаешь творческими личностями?» «Из тех, кого я видел, папа, я считаю творцами столяров, электриков, портных, парикмахеров, архитекторов — всех, кто работает не по шаблону, а с выдумкой». «А как же инженеры, художники, скульпторы, экономисты или, скажем, плановики?» «Художники и скульпторы копируют модель, природу, не внося ничего своего. Они иногда искажают цвет или форму, но это одно из проявлений человеческой неточности, если не спекуляция». К «человеческой неточности» он относился отрицательно, он презирал это качество. «Инженеры же, плановики, экономисты — простые расчетчики, оперирующие десятком известных в их ремесле формул».
— Сурово он нас! — со сдавленным смешком констатировал Чугуев.
— Юношеский экстремизм! — задумчиво сказал Морозов. — Хотя какой он юноша, он же робот!.. Робот. Но робот, находящийся на определенном уровне информации.
— Я думаю, что экстремизм и у людей, пакте, скорее всего, есть следствие определенного этапа умственного развития?
— Он был очень искренним, мой мальчик, — вдруг громко и горячо сказал Борис Алексеевич. — Он был честен и прям. И уровень знаний у него был не так уж и низок. Он много читал, гораздо больше своих сверстников. Но он был ограничен в своей прямоте, — продолжил он, успокаиваясь. — Всякая прямота, наверное, ограничена… Он читал, часто не понимая идей, заложенных в книге, недосказанности, подтекста. Он воспринимал только прямой текст, содержание. Страшно увлекался детективом и вычислял преступников после первых же нескольких страниц. И когда его расчет не совпадал с авторским и убийцей оказывался другой персонаж, он каждый раз бывал одинаково озадачен. — Борис Алексеевич улыбнулся. — Не понимал недомолвок любовных сцен и приходил к Людмиле спрашивать: «Почему многоточие?» или «Что делали герои в промежутке между абзацами?» А она, естественно, шла ко мне; и я вертелся как уж, чтобы как-то объяснить недописанное автором. У него не было воображения человеческого детеныша. Да, вот что всегда отличало его от людей — отсутствие воображения! Он и темноты не боялся, когда был маленьким.
— Неизвестно, наличие воображения — хорошо это или плохо? — сказал Александр Павлович. — А если даже хорошо, то всегда ли?… Еще вопрос. Появилось у… — Он все-таки не решил для себя проблему: кем считать Саньку, машиной или ребенком. — Появилось у Александра в итоге сознание, или там «душа»?
— А что вы называете душой?
Чугуев смутился:
— Ну, точное определение прямо так… сейчас… в голову не приходит… Но можно как-то определить. Душа… душа! Совокупность психических свойств… чувств, что ли… Индивидуальность. Да какого черта! Сами прекрасно понимаете, что я хочу сказать!
— Я не знаю, — растерянно сказал Борис Алексеевич. — Я так и не понял, чем сознание Саньки отличается от сознания других детей. За исключением, может быть, творческого потенциала да еще отсутствия детских капризов… Если хотите, могу рассказать один эпизод, который характеризует «его совокупность психических свойств».
— Давайте!
— Сами знаете, никакая работа не протекает гладко, — начал свой рассказ Морозов. — Так получилось, что пока мы не придумали «утяжелители» из местных материалов для наших машин, а это случилось позже, на каком-то этапе работы приемочная комиссия забраковала наши разработки. Опять по причине их большого веса. Комиссия заседала два дня, устал я как собака, обругали меня и сроки для улучшения технических решений дали небольшие. Короче, пришел я на второй день с работы не в лучшем настроении, буркнул что-то невразумительное сыну и сел за стол на свое место. Санька обед разогрел, подал, а сам все ходит вокруг меня, изучает. Потом сел напротив, посмотрел, как я ем без всякого аппетита, и говорит:
— Папа, а у нас сегодня Тамерлан грохнулся.
Тамерланом звали учителя истории, у которого одна нога была искусственная и немного короче другой. Они его не любили и боялись. Хотя Саньке с его памятью и неподвижностью на уроках жаловаться было не на что.
— Как же это случилось? — спрашиваю.
— А он слушал ответы; встал так — Санька показал, как, опершись задом о парту и перекинув ногу через ногу, стоял историк. Стоял-то он на здоровой ноге, а перекинул через нее больную. А потом решил их поменять и чебурахнулся! — он засмеялся.
— Васька Быков рассказал сегодня, что читал в журнале «Вокруг света», как где-то в Мали, на полянке, маленький негритенок играл с надувным поросенком. В это время из джунглей выполз здоровый удав. Негритенок заверещал и полез к дому, а удав обвил кольцами поросенка, «задушил» его и проглотил. Вот обед-то получился калорийный.
В школе часто пользовались его легковерием и отсутствием юмора и рассказывали ему самые невероятные байки.
— Нюшка Величко принесла сегодня в школу песню одну. Про батальонного разведчика. Хочешь спою? — и, не дожидаясь ответа, он запел:
Я был батальонный разведчик,
А он писаришка штабной.
Я был за Россию ответчик,
А он жил с моею женой.
Он пел неважно. Если вообще можно говорить о слухе кибернетического мальчишки, то слуха у него не было. Не сделали ему слуха. Голос же был беден модуляциями и какой-то металлический. Песня была смешная, но удовольствия мне доставила мало.
Затем он рассказал мне пару свеженьких анекдотов, которые тоже черпал в школе.
— Послушай, Саня, — сказал я ему раздраженно. — Никак не могу понять твоей логики. Ну, скажи, пожалуйста, чем связаны твои истории, какие между ними логические связи?
— Какие связи? — переспросил он. — А вот какие. Ты пришел домой усталый и огорченный.
— Откуда ты взял?
— Ты сказал «здравствуй, Александр» вместо «здравствуй, Санька» или «Сашка». Потом долго молчал, ел без аппетита.
— Ну, и что дальше? — я был сердит и говорил довольно грубо.