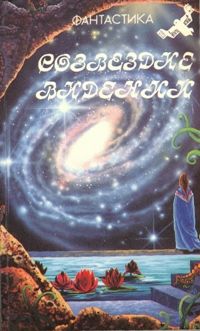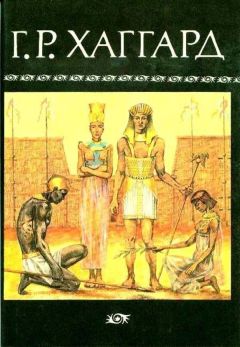Гороховища стукнула в нее колотушкой — и дно сковороды зарделось, побагровело, засветилось раскаленно…7 Сторожиха смотрела пристально — и вдруг толкнула локтем Зоринку:
— Гляди-не зевай! Твой, что ли? Ну и сладил он себе жилуху!
Зорянка сунулась вперед и в светящемся круге на дне сковороды различила очертания Лиховидовой горницы. Однако что-то все время мельтешило, мелькало, мешало… и она не сразу разглядела, что хозяин на полу лежит, будто в сонной одури, а вокруг мечутся, приплясывая, кривляясь и гримасничая, какие-то простоволосые и уродливые, раскосмаченные, распоясанные старухи — бессарафанницы, безрубашницы, в лохмотьях, худые, беззубые…
— Так и есть! — охнула. Гороховища. — Пагубу на него навели! Лихоманьи кудесят!..
* * *Всю-то зиму зимскую спят на высоких горах сестры Лихорадки. А по весне, лишь только пробудится земля ото сна, идут они на люд честной — тело мучить. Конечно, дай им волю — и зимою шастали бы лютые девки, да с кого об эту пору дань возьмешь, коли спят все невры под снегом? Ну а по весне, вместе с сырыми ветрами и талыми водами, и спускаются с гор злые старухи.
Первое дело — встретив человека, броситься ему на шею и ну целовать-миловать! Покуда сообразишь что к чему, покуда отмашешься-отобьешься от неумытых, слюнявых, косматых — жив-здрав не будешь! Остерегаются их люди. И вот с летним теплом оборачиваются Лихоманки мухами, ночными бабочками, ужами да жабами, таятся в тени» сырости, норовят неприметно уязвить прохожего-проезжего. А ночами толкутся средь всякой прочей злобной силы на дорожных перепутьях… там-то и насобирал Нецый полон мешок погани, чтоб чужинца извести!
…Много чего насоветовали Зорянке три Наречницы да Гороховища. И заячью траву велели давать болящему на тощее сердце, и иные другие, зелки для травоволхования, и белую муку с диким медом к язвам прилагать, и водою, в которой звезды ясные отражались, велели на двенадцати зорях умывать недужного, чтоб злую кровь утолить… Она только кивала покорно, а сама-то знала: не простой боляток у Лиховида, чтоб его обыкновенным врачевным балованием исцелить. Тут надобно от лихой силы отчуроваться! По всем, древним забытым премудростям, еще прабабками завещанным.
И, насилу выждав (а вдруг смертная дрема истомная уже возодолела Лиховида?!), когда поблекнет ночь, когда в лесу бухало утихнет да ночная выпелица замолкнет, но чуть прежде того мига, как солнце бросит первый взгляд с небес, она выбежала на поляну, где стояла избенка Лиховидова, и, скинув голубое подаренье, пустилась бежать вокруг избы с приговором:
— Встану я ранней зарей, умоюсь утренней росой, утрусь сырой землей!..
И чуть только выговорила это, как послышался вдали жалобный, испуганный вой.
— Сестры злые, лихие, лютые! — промолвила Зорянка. — Вы свою добычу оставьте, вы свою ярость уймите, а не то назову имена ваши поганые, тайные — все их сведают!
Она замолчала на мгновенье — и тишина воцарилась вокруг, словно все замерло в испуге. И тогда Зорянка возговорила громче:
— Нарецаю вас — ты, злая Трясовица, ты, неугомонная Колотья, ты, Свербежа, ты, Огневица, ты, Ломея, ты, Слепея, ты, Дергуша, ты, Моргуша, ты, Глухея, и ты, Немочь Черная!..
Ух, как завыло, застонало люто и страшно!
— Уймитесь! А не то прокляну я вас злобным заклятием, утомлю в воде-студенице, засмолю в смоле кипучей, сокрушу о камень, на мелкие дробезги разобью, в печи баной засушу, а тебя, Немочь Черная, заставлю воду толочь!
И тут изба Лиховидова затряслась так, словно в ней кто-то огромный метался, скакал и бил в стены.
Зорянка от страха сама готова была бежать куда глаза глядят, но не могла же она кинуть Лиховида! И укрылась за птичьей ногой, а в этот миг сверху, от двери, раздался грохот, а потом чуть ли не на голову Зорянке посыпались вдруг косматые, полуодетые старухи, издававшие дикие вопли.
Чуть коснувшись студеной росы, они обернулись мухами да жабами — и со стенаньями сгинули кто куда, будто их и не было!
Тогда Зорянка выбралась из-за спасительной лапы и, поглядев на небо, не видать ли еще солнышка, кубарем покатилась по поляне вокруг Лиховидовой избы, приговаривая про себя:
— Поставлю я вокруг избы железный тын-страх, чтоб чрез него ни лютый зверь не перескочил, ни гад не переполз, ни лихой человек не переступил, чтоб девки-маньи не заглядывали. А кто решится тын-страх отомкнуть, пусть будет подобен червяку в плоде лесном. Ничем мое слово не поколебать, ничем тын-страх не отворять. Будь по-моему!
И наконец она остановилась.
Тело горело от студеной росы да жестокой травы, и Зорянка подумала, что лето, на излете, вот-вот ветх осенний придет, а значит — сном тяжким забудется весь мир… но она прогнала эти мысли. Надо было поскорее одеться и как-то исхитриться взлезть наверх, попроведать Лиховида.
И вдруг словно бы кто-то погладил ее по плечам. Зорянка вскинула голову — да и ахнула.
Он стоял там, в дверях, высоко… и смотрел на нее — еще бледный, слабый, но живой!
— Ты что тут делаешь? — спросил сверху.
— Девок лихих гоняю, — тихо ответила Зорянка, вдруг заробев. — Теперь всякая хворь тебя минет.
— Я что, болен? — удивился Лиховид и провел рукою по лбу. — А что со мною было? Не помню… Слабость такая… А! — вдруг закивал он. — Наверное, та самая невстаниха, которой Зверина грозилась?
Зорянка онемела.
«Что говорит!!! Да и глупый же! Иль и впрямь боги небесные земного не ведают? Ох, обнять, бы его, зацеловать — уж понял бы, что к чему!»
— Что ж ты так рано? — спрашивал меж тем Лиховид. — Еще и солнце не вставало…
— Рано — чтоб солнце меня не видело, — ответила Зорянка, не понимая, что говорит.
Да, солнца не было в небе, а светло стало. «Ты, ты мое солнце, — чуть не крикнула Зоряика, — это ты мне светишь, И другого светила не надобно!»
Она вдруг ощутила, что ноги ее сделались легкими, легче пуху лебединого, и, как бывало в минуты великого счастья, она поднимается над землей и идет, идет по воздуху, летит туда, где он ждет, и взор его пылает… как вдруг Лиховид вздрогнул и с криком:
— Маяк! — бросился внутрь избы.
* * *
Домовушка всю ночь был неспокоен. То покряхтывал-постанывал за печью, то вдруг начинал шастать по избе, тяжко вздыхая и пришептывая, тычась в- углы, словно искал что. Так и разогнал дрему.
— Чего тебе, старый? — не выдержал наконец Атей, поднимаясь со своего жесткого ложа. Он хоть и сам был глубоким старцем, Домовушку почитал, а не только лишь пригревал как приживала, чуя его родственность со всей этой землей — более крепкую и глубокую, чем связь с нею людского рода, а уж тем более — чем его, Атея, собственная.