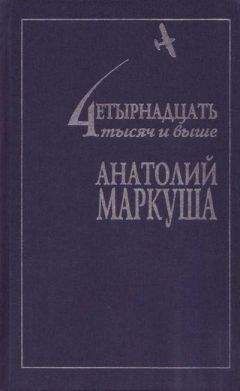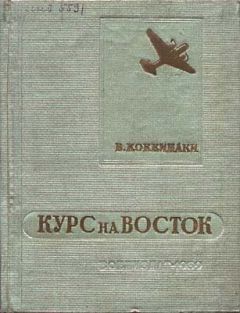— Ну, спасибо тебе, француз. Представить себе такого не мог, чтобы до полного выключения… Веришь, как умер и — воскрес. Кошмар и восторг! Жив.
Стоит вникнуть в эти слова: главное — жив. Нет, я вовсе не собираюсь разводить сантиментальную мороку вокруг нашего испытательского ремесла: сегодня жив, «а завтра я чуть свет уйду от вас», но одно надо четко понимать — эта профессия из числа профессий повышенного риска и хотя бы поэтому заслуживает особого уважения. Каждый, кто не согласен с таким положением, пусть съездит в подмосковный город Жуковский, не на авиакосмический салон и не на празднование Дня Воздушного Флота, а на местное городское кладбище и неторопливо пройдется вдоль могил, внимательно вчитываясь в даты: родился — похоронен…
Поэтому ни я, ни кто другой не смеет судить шефа или упрекать его — и не стыдно в таких летах, в таких чинах. Сам я, между прочим, почти не пью, но не из этических или эстетических или каких-нибудь еще высоких соображений, просто вино не содействует моему расслаблению, не снимает стресс, ни на грамм не прибавляет радости. Приняв «норму», я становлюсь угрюмей, медленно сползаю в меланхолию, а перешагнув за «норму» и вовсе скисаю, могу даже слезу уронить.
Когда-то пришел к маме со своим добрым приятелем, старым летчиком-инструктором, мужиком, в авиационных порядках искушенным.
Мама захлопотала, собирая на стол, чтобы угостить нас, как могла лучше и порекомендовала моему приятелю прежде всего проглотить граммов тридцать сливочного масла.
— И тогда вы сможете спокойно принять столько спиртного, сколько душа потребует… Масло обволакивает, и человек не пьянеет.
Услышав это наставление, мой приятель спросил с неподдельным удивлением:
— Но для чего же тогда пить, если ничего не почувствуешь?
«Выпил рюмку, выпил — две…» — очень деликатная тема. И как ее не поворачивай, сколько не рассуждай, мне кажется, ничего более существенного, чем высказал шеф выдумать невозможно: главное — жив.
Об этом и многом другом главном у меня появилось время капитально подумать после очередной вынужденной посадки.
В тот день все вроде бы благоприятствовало выполнению задания. И погода лучше не бывает, и движок, можно сказать, шелестел и настроение соответствовало, пока на высоте в полторы тысячи метров, уже на подходе к аэродрому, машину дико не затрясло, и почти сразу в фонарь ударило черным и жидким. Первое, что я понял — фонарь забило горячим маслом, второе, что до меня дошло — винт разрушился и слетел. Выключив зажигание и перекрыв пожарный кран, подумал — может и не загорюсь… Но за пределами кабины я почти ничего не видел.
Самолет, внезапно превратившийся в планер, снижался. Если бы не забитое маслом лобовое стекло кабины, пожалуй, пилотирование и не представляло бы особых трудностей. Некоторое время я вел машину исключительно по приборам, не открывая сдвижную часть фонаря, так как боялся, чтобы горячее масло не залепило физиономию. Передав о случившемся земле, я выждал до высоты тысяча метров, и, крадучись потянул сдвижную часть фонаря назад. Бог миловал, масло больше не фонтанировало, но обзор был — хуже не придумаешь. На аэродром я попадал, не сомневался: зайти и нормально приземлиться поможет земля. Так и получилось…
Инженерная служба принялась за выяснение причин аварии, а мне, откровенно говоря, делать было решительно нечего и я просто не знал куда себя девать.
Каждое утро я исправно приезжал на работу, толкался в летной комнате, читал техническую литературу, иногда смотрел телевизор, случалось, гонял шары на бильярде или принимал участие в общем трепе — на аэродромах такой треп называется банком. «Травить банк» — святое дело! Наверняка я бы мог какое-то время вовсе не появляться на службе, едва ли кто-нибудь заметил мое отсутствие, но я исправно приезжал. Почему? Отчасти по велению совести, но еще больше потому, что меня не покидало ожидание чего-то важного. Нет-нет, телепатом я себя не считаю, но приближение очередного вдруг как-то бессознательно почти всегда ощущаю и жду.
Обычно в летной комнате народ подолгу не задерживается. Входили, выходили, возвращались, один я, забившись в угол, повышал свой профессиональный уровень, назовем это так, с вашего разрешения. Когда надоедало разбираться в чертежах и графиках, брался за книгу Г. Голубева, выдающегося и, увы, недооцененного современниками летчика и педагога, большого психолога. «Изучить характер человека — значит с точки зрения его психологических особенностей ответить на вопрос: что же в нем главное? Большой и значительный характер — это большая определенность в значительных делах». Мне эти мысли Голубева были не чужды, я готов был к попытке продолжить рассуждение, но меня окликнул шеф, незаметно появившийся в летной комнате.
— Загораешь, француз?! Мозги себе запудриваешь? А подсобить трудящимся не хочешь?
Не спрашивая, каким трудящимся требуется подмога, я спросил:
— Нет вопросов, кроме одного — чего делать? Оказалось надо втихаря слетать за второго пилота с Романцевым. Его штатный второй пилот почему-то на службу не явился, приболел или загулял, пока неизвестно, время не ждет — месяц кончается. Романцеву лететь не с кем. Почему лететь надо было втихаря, я признаться, не сразу понял. К работе на прототипе бомбера меня официально никто не допускал, это — раз; в приказе я не значился членом экипажа — это два; пилотского свидетельства летчика-испытателя установленного образца, я не имел, это — три. И еще можно добавить — допуск к секретной работе то ли не поступил в фирму, то ли был задержан по пути…
Машина, на которой предстояло лететь, была двухдвигательная, реактивная, скоростная. Из нее со временем должен был вырасти зверь-бомбардировщик. А сегодня предстояло замерить расходы горючего и уточнить скороподъемность на высоту в десять тысяч метров. Задание самое рядовое.
— Обязанность правого, — посмеиваясь, сказал шеф, имея в виду второго пилота, — не мешать левому. Так что я на тебя надеюсь, сиди себе спокойно и все будет о'кэй. Да-а, вспомнил! Ты знаешь, что записано в первом параграфе боевого устава пехоты израильской армии?. Нет… так запомни на всякий случай: во время боя запрещается давать советы командиру… Ну, все, и не попадайся на глаза Александрову! Сожрет с потрохами. Меня сожрет.
Романцев был старожилом фирмы, пролетавший общим счетом лет двадцать пять, если не больше. Он быстренько познакомил меня с кабиной, велел посидеть на месте второго пилота, попривыкнуть к расположению приборов и органов управления, а сам мотанул подписывать полетный лист, в котором вторым пилотом значился Юрченко.