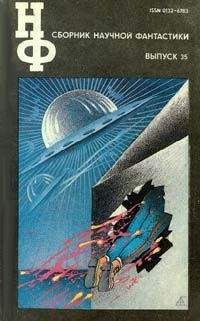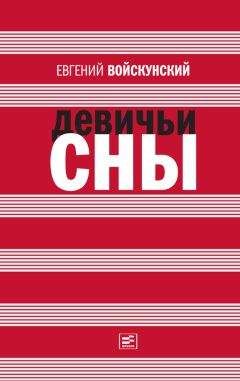— Ага. А когда придут корабли?
— А ты сделай запрос командующему флотом.
Сергей потрогал повязку на голове. Голова была полна боли.
— Сволочи! — непонятно кого обругал Писаренко и окутался дымом. — Нехай мне будет лихо, — сказал он, раздавливая сапогом окурок, — а все ж таки я бомбил Берлин.
Корабли что-то не шли из Кронштадта. К началу октября остатки сорок шестого полка, сводный морской батальон и другие сильно поредевшие части истекали кровью на последних рубежах обороны на южной оконечности полуострова Сырве. Дальше уходить было некуда. Их поддерживала огнем 315-я береговая батарея, там героические были комендоры, героический командир капитан Стебель, известный всему Моонзундскому архипелагу, — только эта батарея поддерживала их, но и там уже кончались тяжелые снаряды. Кончался боезапас у стрелков и моряков, державших последний рубеж. И продовольствие кончалось. Кончались бинты.
А корабли не шли.
Ночь на 3 октября застала Сергея и несколько десятков стрелков из выбитого батальона близ поселка Мынту. В поселке что-то горело, мрачные красные отсветы разгорались и гасли на тучах, бесконечно плывущих над Эзелем. «Что же за нами никто не идет? — думал Сергей, мерзнувший в своем бушлате. Он лежал на дне траншеи с чужой винтовкой, доставшейся после гибели ее владельца. Он был теперь вторым номером в уцелевшем пулеметном расчете. Первый номер спал в двух шагах от него. Станковый пулемет на бруствере остывал от недавнего боя. — Никто не идет нас снимать… А ведь завтра… да уж, наверное, завтра будет мой последний день».
Он задремал и сквозь сон услышал, как кто-то выкликает его фамилию. С трудом разлепил воспаленные веки.
— Беспалов! — И уже удаляющийся голос звал: — Эй, Беспалов! Живой ты чи ни?
Неловко, еще в полусне, вылез Сергей из траншеи и закричал вслед уходящему Писаренко:
— Здесь я! Здесь!
И упал ничком под длинной пулеметной очередью с немецкой стороны. Он полз под роем трассирующих посвистывающих пуль и кричал, чтоб Писаренко обождал его.
Потом они шли по улице поселка, под сапогами скрипело битое стекло. Писаренко снова и снова принимался рассказывать, как в штаб полка позвонили из штаба укрепрайона и велели всем, кто жив из летного и техсостава авиагруппы, срочно прибыть на пристань, вот он, Писаренко, ищет, а двух технарей уже нету — Пихтелева вчера наповал, а Колесник пропал без вести, и мы с тобой, Беспалов, только и остались тут — сталинские соколы.
У пристани, под сполохами пожаров, качались четыре торпедных катера, и сходили на них по сходням люди, большинство в морской форме, но и сухопутные тоже. Командиры тут были, и даже (как узнал впоследствии Сергей) сам командир Островного укрепрайона генерал Елисеев со своим штабом. Черным-черно было от шинелей на узких катерных палубах. Когда Писаренко с Беспаловым, последние в очереди, подступили к сходне, их зычно окликнул командир со свирепым лицом:
— Кто такие? А ну, назад!
Недоверчиво зыркнул по ним узкими глазами, выслушав объяснение Писаренко, что, мол, есть приказ насчет авиаторов, но пропустил.
Корма торпедного катера — не лучшее место для пассажиров, тут два желоба для торпед, в желобах и сидели тесно, скорчившись, люди, уходившие с Эзеля. Когда взревели моторы и стала уплывать пристань, Сергею подумалось, что вот, корабли не корабли, а катера все же пришли и увозят их в Кронштадт. Только почему так мало, всего-то четыре катера… может, еще придут, чтобы снять всех, кто остался на Сырве?..
Какое-то время виднелось багровое пятно над Мынту, как рана в черном теле ночи. Потом осталась только мгла, наполненная ревом моторов, свистом ветра и протяжными стонами моря.
Море бросало катер с непонятной Сергею злостью. Он и вообще-то впервые в жизни оказался в море — да и сразу в шторм. Страшно ему было, когда волной захлестывало, ну, слизнет сейчас катер, как жучка, и потащит в эту… как ее… в пучину… А катер мчался с ревом, его подбрасывало и швыряло вниз. Непонятно, почему еще теплилась у Сергея жизнь в мокром ледяном теле.
Потом испуг притупился, и стало все равно, что будет дальше, наступит ли день, или навсегда останутся ночь и ревущая вода…
Сергей очнулся от удара в бок. Тупо посмотрел на черные усы на белом вытянутом лице Писаренко. «Проснись, — прохрипел тот. — Подходим». Была все та же первобытная ночь, и Сергей, шевеля мозгами, сообразил, что до Кронштадта за одну ночь не дойти, — значит, приближающийся черный берег с неясными силуэтами строений никак не мог быть кронштадтским.
Он так и не запомнил, как назывался приморский город на острове Даго, к причалу которого подошел катер. Название было похоже на слово «мясо».
Морской водой разъело под бинтами рану. Голова была наполнена болью и туманом, и выплывал из тумана то странно раздутый, будто накачанный воздухом человек с бритым черепом и спрашивал — «ты почему мне щуку не поймал?», — то беззвучно кричал, раскрывая щелястый рот, бывший тесть — «взяли в семью, голь перекатная!», — то снилось и вовсе непонятное: будто идут-бредут по каменистой местности друг за дружкой несколько женщин в длинных платьях с кувшинами в руках, а лица у них печальные, — то мерещилось будто девичье лицо, незнакомое и доброе… постой, красная девица, не уходи… из какой сказки ты явилась?.. не уплывай!..
Когда туман рассеялся, Сергей обнаружил себя лежащим на койке, на настоящих простынях, под настоящим одеялом, — впервые после окончания ШМАС он не валялся на земле. Справа и слева лежали на койках люди, кто-то зверски храпел, была, наверное, ночь, слабо горела на тумбочке настольная лампа. Он умилился вдруг: настольная лампа! Да где же он, в какую сказку попал?
А утром уже наяву возникла в палате красна девица. Была она маленькая, в белом халатике и белой косынке, из-под которой выбилась белокурая челочка, — и она улыбнулась Сергею и спросила, пальчиком указав на повязку на голове:
— Больно?
Он растянул запекшиеся губы в трудной улыбке, качнул головой: нет, не больно. Потом, когда медсестра сделала ему укол, он спросил, как ее зовут.
— Марта, — сказала маленькая эстоночка и вышла из палаты.
Он зашелся кашлем. Дико и долго кашлял. Лежал, обессиленный, и повторял про себя: Марта, Марта… Всплыло вдруг в памяти из далеких дней, из юности в Серпухове, когда он в клубе имени Буденного книжки читал и попалась однажды книжка поэта Багрицкого, там были поразившие его стихи, — и вот одно всплыло в памяти: Марта, Марта, надо ль плакать, если… как же дальше… если Дидель вышел в поле… Марта, Марта, шептал он имя, венчавшее сказку. И почему-то при звуке этого милого имени замирала душа.