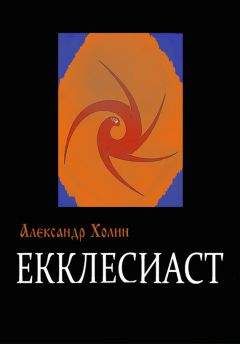— Ты извини, — говорю я, — мне не хотелось, чтоб так вышло…
— Пожалуй, это я перегнул палку, — внушает мне пришелец. — Люди тонкокожи, иногда удивляешься, что они вообще выжили, и нет ли здесь ошибки природы. Но эта ошибка не кажется неисправимой, верно?
К сожалению, он прав, резок и нагл, но прав — тогда и сейчас. Только у меня нет аналогичной пепельницы, способной к полету за честь всего человечества. И совсем нет желания снова пугать гостя.
— Не сердись, — транслирует он. — Не стоит нам ссориться, это более бессмысленно, чем ты можешь себе вообразить. Лучше поболтаем так — о всякой всячине, мне ведь скоро улетать.
В голове моей каша, сотни вопросов теснят друг друга, и трудно с чего-нибудь начать. Разумеется, пришла пора поболтать, смешно качать права, когда перед тобой нечто или некто внеземное.
Некоторые вопросы выпирают наружу, от них буквально трещит не слишком крепкое полотно моей внутренней картины мира. Например, как они летают…
— Не ломай себе голову, — усмехается голубой человечек, как может усмехаться колеблющееся облако. — Все гораздо проще. Я тоже думаю, что межзвездные фотонные монстры — нелепость. Зачем гонять живые существа в далекие и опасные путешествия ради информации, которую можно получить при помощи обычных сигналов? И зачем сбрасывать над планетой блюдца, чурающиеся прямых контактов? Блажь…
Блажь? Я целиком согласен с этим; но, черт возьми, а ты-то откуда, разговорчивое мое чудо? Если межзвездные броски обитаемых кораблей лишены смысла, то как же ты путешествуешь и куда торопишься улететь? Ничего не понимаю. Может быть, речь идет о движении во времени?
Вот! Именно эта идея — летающие блюдца как хрономобили. Тогда понятно многое, слишком многое — и их некоммуникабельность, и странные исчезновения, и… И неужели мои видения как-то связаны с его присутствием?
— Ты чертовски догадлив, — сообщает мне гном. — Завидки берут, до чего ты секуч и понятлив.
— Так это из научной фантастики? — радостно уточняю я. — Ну, Уэллс и прочие изобретатели машины времени, да?
— Уэллс написал обычную сказку, — радужно переливаясь, внушает мне голубой человечек, — а остальные долго ему подражали. Серьезные идеи движения во времени появились куда поздней, они связаны с теорией культуроидных структур, и вообще все это слишком сложно и скучно для дружеской вечерней беседы.
— А что такое культуроидные структуры? — искренне удивляюсь я.
— Это как раз нехитро, — по-моему, с плохо скрываемой зевотой объясняет гном. — То, что относится к передаче небиологической наследственности обучение, социальная адаптация, со временем формирует устойчивые структуры образы искусства, науки, религии. Это особый мир…
— Нечто вроде платоновских эйдосов? — демонстрирую я эрудицию.
— Если бронзовые зеркала, которыми Архимед пытался поджечь римский флот, что-то вроде ваших лазеров, то и эйдос — нечто вроде культуроидной структуры в нашем понимании, — терпеливо растолковывает мне гном. — И вообще, я не намерен читать лекции о твоем будущем — далеко не все может тебя обрадовать…
Я же знал, что тарелка зря висит над моим домом темного гуманитария. Физик вцепился бы когтями и все выпытал, даже рискуя увидеть собственное будущее в не слишком розовом свете.
Что бы ему и впрямь не повисеть в иных местах, внушая идеи переплавки танков в велосипеды, конструкцию своего блюдца или, на худой конец, приличного картофелеуборочного комбайна. Неужели важнее забрасывать меня, биографа-собаку, в иные времена, дразнить ощутимостью давно ушедшего, где ничего не исправишь и никому не поможешь?
— Должно быть, так, — продолжает он, — и ты не удивляйся, оно бесспорно важнее. Никакие комбайны не заместят понимания человека. И не иронизируй над образом собаки, внедрившимся в тебя. Надо спасать мертвых во имя живых, этому учат сенбернаров, но иногда забывают учить писателей. Если не заглядывать в прошлое, всамделишное, а не игрушечное, велик риск интеллектуальных мутаций, легко остаться без будущего, вообразить, что история открывается карьерой твоего высокопоставленного папеньки и блестяще завершается твоими умственными упражнениями…
Какого дьявола ты трогаешь отца? Чтоб тебя самого так высоко поставило…
— Обидчив ты не в меру, — ухмыляется гном. — Я ведь не о тебе лично, так — для примера, хотел показать, что наши путешествия действительно важны. Но кстати, я и тарелка здесь ни при чем. Это должно стать личной потребностью и зависит только от тебя.
Красивые слова! Куда бы я заглянул, не зависни твоя тарелка именно над моим домом и именно этой осенью? Куда бы я заглянул, не слетай она предварительно во времена Струйского, не проследи его жизнь от первых до последних мгновений и, наконец, не облучи меня каким-то неизвестным полем воображения? Вот тебе и атмосферный фантом…
— Да нет же, нет! — отчего-то нервничает голубой человечек. — Это твоя тарелка, вернее, твой и уже опознанный летающий объект. Постарайся хоть сейчас что-нибудь понять. Ты сам делаешь шаги во времени, сам платишь за каждый свой шаг, и это твой фантом…
Он устал прыгать на разделяющий нас сверхвысокий барьер, устал от бесконечных своих путешествий, и усталость его вливается в меня, упругими волнами перекатывается внутри, и в резонанс с ними постанывают мои бедняги-кентавры.
Этот голубой дымок, в сущности, тоже один из них. Я устал. Бог с ними, с вопросами…
— Так-то лучше, — генерирует голубой человечек. — Знаешь, я утром исчезну, но ты не будешь в одиночестве. Утром жди гостей.
Я их давно жду и очень живо вижу грядущий день, включая загрузку Сережиного «Москвича» дачной амуницией.
— Но эта ночь твоя. Если ты способен еще, если желаешь… — с явным сочувствием вздыхает гном. — Только потом не жалей о принятых решениях.
О чем жалеть? Радоваться…
— Не финти, — слышу я отчетливо, словно реальный голос, — если захочешь, к утру я могу стереть все твои нелегальные впечатления. Пусть останется добротная и удобная модель потребного тебе десятилетия, черно-белая, без всяких там пестрот и полутонов, без всяких стереопроекций во времена иные. И будет недурно, а?
Куда девалась моя летающая мраморная птица?
Человечек словно бы пожимает плечами, на самом деле облако начинает вибрировать, становится все прозрачней и куда-то исчезает.
В тот момент мог бы присягнуть, что оно втянулось в меня, заняло свое место среди отдыхающих кентавров, но секундой позже — ни за что. Его просто не стало, как, вероятней всего, и не было никогда.
19
Дело, видимо, в том, что я возвратился с чашкой чая к своему креслу нелепой, но крайне удобной конструкции. Уселся, и тут же завьюжило — смирно гревшиеся друг о друга образы понеслись хороводом, и в свисте, очень напоминающем назойливый аккомпанемент первого контакта, стало чудиться разное. Все, как в его полудетском: