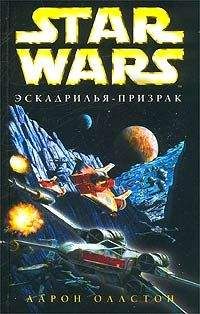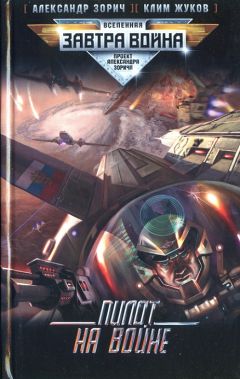— Ни к чему осмотрительность! Ты вовсе не был виноват! Ведь ты ничего мне не обещал! Просто… Вначале ведь идет желание любить. И только вслед за ним — сама любовь. Во мне было слишком много этого желания… — Риши издала сдавленный вздох и добавила: — Знаешь, мне иногда кажется, что любовь — это нечто вроде… прячущегося солнца.
— Как-как? Солнца? — глуповато переспросил я.
— Сейчас попробую объяснить. Если это маленькое солнце, я имею в виду солнце любви, спрячется за спиной какого-нибудь человека, тебе будет казаться, что этот человек сияет, что он самый светлый, самый прекрасный. Но однажды солнце перейдет на новое место, найдет нового человека и спрячется у него за спиной. И вот уже другой человек будет казаться тебе богом, будет вызывать твою любовь! Наверное, я не сумела сказать красиво — это такие сложные материи, а я… так ужасно волнуюсь! — Риши молитвенно сложила руки и скроила умилительную гримаску.
— Отчего же… Я понял, что ты хотела сказать. Любовь — первична. А те, кого мы любим, — они, так получается, вторичны… И все мы светим отраженным светом — светом того единственного солнца, которое прячется за нами… и которое, возможно, есть Бог, коль скоро Бог есть любовь… Верно?
— Верно! — радостно согласилась Риши.
— Ну вот и славно…
Я чувствовал себя неуютно во время разговоров о сути любви. Возможно, просто недоставало навыка, налета, так сказать. А может, оттого, что сама любовь ассоциировалась у меня теперь исключительно с Таней. С нею одной. Нет, я не видел ничего крамольного в нашей беседе, но…
Так или иначе, я поспешил свернуть теме шею:
— Что ж, практика показала, что ослиное молоко — прекрасное лекарство. Выглядишь ты замечательно! Просто как… как Амеретат! Да здравствует доктор Римуш!
— Да-да, спасибо ему! — блаженно откликнулась Риши. — Меня спас он. А вовсе не ослиное молоко! После того как мы расписались, мне сразу стало так легко…
«Интересно, они с Римушем… были близки до свадьбы? Или нет?» — промелькнула мысль, но я вышвырнул ее прочь ввиду откровенной пошлости напрашивающихся выводов, в худших традициях языкастых, всему знающих «цену» провинциальных баб: «Вот нашла нормального мужика себе, так он сразу всю дурь из головы ей и выбил!»
— Ты себе представить не можешь, как приятно мне это слышать!
Несколько секунд мы молчали. Я не мог понять — то ли наши любительские философствования служили лишь вводной частью к Действительно Важному Разговору, то ли им они и являлись. Это ведь только музыканты, слушая оперу в записи, всегда безошибочно определяют, где кончается увертюра и начинается основное действие. Товарищам же без слуха — то есть боевым офицерам вроде меня — все едино.
О чем думала Риши в ту минуту, мне было неведомо. Может, ни о чем не думала, просто смотрела на меня. И получала удовольствие от этого незамысловатого (хотя и чудовищно дорогого, учитывая цены на Х-связь) процесса. И если женщины действительно любят ушами, а мужчины — глазами, то Риши (как и когда-то Исса) в этом вопросе была скорее мужчиной. Она буквально пожирала меня своим пламенистым взглядом.
— Расскажи же мне скорее, как ты живешь! — наконец попросила Риши, пересчитав ворсинки на рукаве моего халата и щетинки на моей небритой щеке.
— Живу — как на перекрестке. Миллион мыслей, предложений, приглашают куда-то все время, как кинозвезду. А я… Как сказал бы мой театральный папа, я еще не определился со сценарием… Правда, отпуск мой пока не окончился. Есть время почитать текст.
«Как кинозвезду» меня и вправду приглашали. Но я из деликатности не стал уточнять, куда и в каком качестве, — я ведь говорил все-таки с конкордианкой, патриоткой своей страны, а ее прекрасная родина войну проиграла, причем разгром был полным. Поэтому, как я полагал, подробности послевоенного карьерного роста офицера державы-победительницы едва ли будут Риши столь уж интересны, а главное — приятны.
Ну а приглашали меня в самые разные места — только рапорт напиши.
Федюнин и Кайманов зазывали служить на «Дзуйхо» пилотом-инструктором.
Бердник просил остаться во 2-м гвардейском: сулил комэска в течение 24 часов после моего согласия и старшего лейтенанта автоматически, как дело решенное, а «через полгодика» гарантировал должность замначштаба полка.
Румянцев с наизагадочнейшим видом спрашивал, нет ли у меня желания «поработать серьезно» в Тремезианском поясе. (Нет, такого желания у меня не было; но мне льстило, что его высокие покровители из ГАБ считают лейтенанта Пушкина пригодным для «серьезной работы».)
Наконец, звонил некий задумчивый спец из Технограда, жаловался на нехватку опытных кадров в отряде пилотов-испытателей, соблазнял лаврами первопроходца, укротителя новейшей техники…
Вместо всего этого я зачем-то рассказал Риши о том, что мы с Меркуловым и Данканом Тесом получили награды — за Город Полковников. Не упустил ни одной подробности, приукрасил, конечно… Например, когда Меркулов узнал, что Данкану Тесу, гражданину Атлантической Директории, вручили высшую награду России — Звезду Героя, — он, выказав глубоко несвойственную себе рассудительность, заметил: «А что, нормально. За дело дали».
В моей же красочной интерпретации Меркулов орал, что он отказывается носить свое «Боевое Знамя», когда всяким америкашкам раздают Героев направо и налево, что это вражьи происки и что если он, Меркулов, не получит к концу войны две Золотые Звезды — увольняется из военфлота к едрене фене.
Риши, к моему удивлению, темой очень заинтересовалась, вдумчиво кивала и, когда я дошел до якобы сделанных Меркуловым заявлений, спросила:
— Ну и как? Получил он свои две звезды?
— Как посмотреть. Он получил две золотые звезды на погоны, то есть стал капитаном второго ранга.
— Дал слово — сдержал слово. Настоящий пехлеван, — одобрила Риши. И, не скрывая гордости, добавила: — А вот мой Римуш за отвагу, проявленную при пожаре на борту линкора «Фраат», получил Серебряное Солнце… И мне тоже медаль дали.
— За отвагу при пожаре на «Фраате»? — ахнул я.
— Не-ет. — Риши рассмеялась. — Новую медаль. Ее все офицеры получили, даже отставники и комиссованные. Называется она «Атур-Вэртрагн».
— Это… Это означает «Огонь»… «Огонь Победы»?
— Именно так.
— И что это за огонь? У вас такого вроде раньше не было?
— Медаль названа в честь четвертого Священного Светоча, зажженного в Хосрове по случаю всемирно-исторической победы над азиатским буддизмом, европейским атеизмом и вселенским манихеизмом, одержанной в системе Вахрам.
«Ах вот оно что…» — подумал я, начав кое о чем догадываться.
— А как насчет российского гегемонизма? — осторожно уточнил я.
— Эта установка была признана ошибочной, — отрезала Риши чужим, заемным голосом своей прекрасной родины. И, вздохнув, добавила: — Жаль, конечно, что Паркиду пришлось взорвать… Но это был единственный способ образумить азиатские полчища. Ты согласен?
— Вне всякого сомнения! — согласился я с подчеркнутым энтузиазмом.
Я даже затрудняюсь сказать, что меня впечатлило больше. Изворотливость Народного Дивана и Благого Совещания, способных любые события выставить всемирно-исторической победой конкордианского народа? Или пластичность сознания этого самого народа, принимающего с воодушевлением любую конфигурацию идеологической змеи-головоломки?
Пришлось срочно вспоминать еще какую-то ерунду, лишь бы не молчать и ничем не выдать своего скепсиса касательно «взорванной» Паркиды. О появлении в моей жизни Татьяны я даже в косвенной форме не упомянул — наверное, привычка щадить чувства Риши (пусть — воображаемые чувства!) стала-таки моей второй натурой.
Риши же рассказала мне о грядущей реформе клонской системы здравоохранения. И о своей нравственной оценке оной реформы. Как встарь!
Между тем, пока длился наш разговор, я все никак не мог решить, следует ли упоминать о Коле. Точнее, я сразу решил: если Риши справится о нем, я выложу ей горькую правду. А если не спросит — промолчу.
А вот о том, что Коля безответно, тайно, мучительно любил ее со дня нашего идиотского знакомства на пляже той самой «Чахры», я все же решил ей ни за что не рассказывать. Ведь благодаря Риши я на собственном опыте узнал, как трудно влачить по дороге жизни эту скорбную ношу — бремя чужого чувства, которое ты не в силах разделить. Словом, я избавил Риши от роли Жестокой Прекрасной Дамы. Однако мысль о Коле натолкнула меня на один странноватый вопрос — он исподволь грыз меня с того самого рокового отпуска.
— Послушай, Риши, ты помнишь, как мы встретились?
— Конечно, Саша! Эти дни — священные дни моей жизни. — Риши церемонно кивнула.
— Помнишь, в первый день знакомства мы вчетвером — я, Исса, Коля и ты… мы пели на пляже песню. Всего один куплет этой песни… Вначале мы ее вместе разучили — а потом спели!