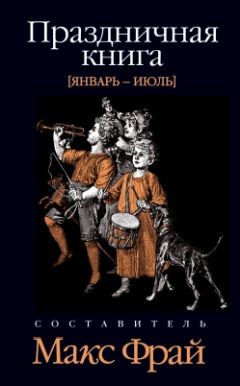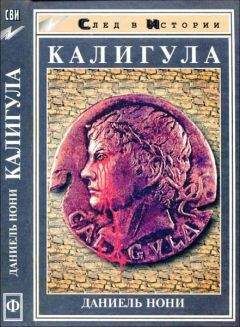— И что мне, по-вашему, делать дома?
— Уроки, — предложил он.
— Скажите, вы меня за дурочку держите или я все-таки похожа на пушку? — осведомилась я.
Он немного поразмыслил на эту тему.
— Мне трудно судить, — признался он наконец. — Тебе удается сбивать меня с толку, что, несомненно, свидетельствует о твоем уме. Но, с другой стороны, много ли нужно ума, чтобы сбить меня с толку? Вот я и не могу ответить на твой вопрос однозначно.
— Следовательно, мы можем судить лишь об относительности моего ума касательно вашего, — восторжествовала я. — Как вас зовут?
— Валентин, — сказал он.
— Я назвала имя и фамилию, — надулась я. — Нечестно зажимать целый вопрос.
— Валентин Фихтеле.
— Ага, — сказала я и отвела глаза.
Он насторожился.
— Что?
— Небось, «Фихтеле» — не настоящая фамилия. Соврать решили.
Он засмеялся.
— Тогда — «Айзенбах». Подходит?
— Лучше уж Фихтеле, — проворчала я.
— Лучше просто Валентин, — сказал он. — Заказать тебе сок? Тут, кажется, подают что-то такое…
— Тут подают два вида пива, разбавленное и не очень, — рассердилась я. — И я сюда не ради выпивки пришла, а ради вас.
Я видела, что ему хочется чувствовать себя польщенным, но он боится. Ему достаточно лет, чтобы знать: неожиданности чаще всего бывают неприятными, а женский интерес — тем более.
— Я вам не сделаю дурного, — обещала я. — Мне просто хотелось с вами познакомиться.
— Почему?
— Потому что я каждый день вижу вас из окна.
— А я тебя вижу в первый раз, — признался он.
— Будь наоборот, я бы сказала, что мы оба погрешили против законов физики. Я их сейчас, кстати, изучаю.
— Вот как?
— Да. И вот вам главный закон физики: если ты за кем-то подсматриваешь из окна, задерни шторы.
— Ты задергиваешь шторы?
— Вовсе нет. Вы достаточно беспечны, чтобы я могла соблюдать законы физики, оставляя окно открытым.
Он повернулся и безошибочно нашел глазами мое окошко.
— Что ж, в таком случае, ты все обо мне уже знаешь. Мне двадцать восемь лет, меня зовут Валентин, и каждое утро я прихожу сюда — сидеть на стуле и пить пиво.
* * *
Дожди прилетали вместе с ветром, и трава принимала их благодарно. Она поднималась выше человеческого роста, полная влаги, а полю не было видно конца. В этом году, как и в прошлом, здесь не сеяли, и сорняки поднялись на сытной почве настолько рослые и крепкие, что колеса телег ломали их со звучным хрустом, словно это были кости. Безымянные пепелища за лето поросли лопухами.
Войска ходили по этой местности взад-вперед. В принципе, она должна была стать уже знакомой, почти родной, но Валентин так и не научился узнавать ее при каждой новой встрече, потому что каждый раз им давали новое задание: занять деревню, занять холм, выбить из рощи неприятеля, снять снайпера с колокольни. И всегда Валентину казалось, что это новая деревня, новый холм, новая роща, новая колокольня, а вот неприятель и отдельный снайпер — они, наоборот, всегда были одни и те же, неубиваемые, неизменные. Куда ни придешь — в какую деревню, в какую рощу, — они тут как тут, целые и невредимые, и требуется снова и снова их выбить, снять и уничтожить.
И вот они шли по дороге, которую Шальк почему-то узнавал, а Валентин узнавать отказывался. Он и дороги-то не видел — одни только сорняки в человеческий рост. Но Шальк утверждал, что они здесь уже были в прошлом месяце, даже пытался напоминать какие-то подробности. Валентин не спорил. Шальк — первый номер их расчета, все ответственные решения принимает тоже Шальк, когда до такого доходит дело. Валентин не видит выше колеса, в то время как Шальк тянет лошадь и имеет перед собой сравнительно широкий кругозор.
— Ну гляди, вон там же был дом сгоревший, а перед ним колодец, — напирал зачем-то Шальк.
Валентин отмолчался. Шальк запросто может разговаривать сам с собой, ему собеседники не нужны.
Дом действительно показался — и точно сгоревший, одна только печка торчит и два бревна угадываются в траве. И колодец наверняка поблизости.
— Ага, а дальше, вот увидишь, — деревня и колокольня вон там, на холме, — показывал Шальк торжествуя. Как будто в деревне нет неприятеля, а на колокольне — снайпера, как будто не придется сейчас начинать все сначала в этом заколдованном круге.
Идти вдруг стало легче, дорога под ногами выгнулась, точно кошка, и стала твердой и сухой. Колеса покатились без понуканий, лошадь перестала задирать морду и потрусила веселее.
Валентин выпрямился, сделал несколько свободных шагов, вздохнул, подставляя лицо ветру. Справа и слева трава гнулась, влажная, под солнцем то серебряная до белизны, то вдруг почти черная.
Почти сразу же впереди возникла сумятица, все смялось, и Валентин споткнулся. Шальк уже бежал к нему, с винтовкой в оставленной руке, с широко раскрытым ртом — кричал что-то. Потом мелькнул штанами, сапогами и исчез — упал возле колеса, уперся локтями в землю, стал соображать, подмигивая шулерским глазом. Валентин нырнул вниз, к Шальку.
— Вон оттуда лупят, — показал Шальк подбородком.
Шальк напоминал подростка — маленький, востроносый, с блекло-серыми глазами, белобрысый до бесцветности. Когда он в задумчивости жевал губами, то становился похожим на обиженную бабушку, но такое случалось редко и никак не бывало связано с какими-либо внешними причинами. Больше всего на свете Шальк любил свое орудие. На втором месте у него шли жареные сардельки и на третьем, с очень большим отрывом, — вальс «Голубой Дунай».
— Что там? — спросил Валентин, оказавшись рядом с Шальком.
Шальк щурился до подергиваний века, потом сказал зло:
— Не вижу, откуда стреляют…
Стреляли из рощи. В головах колонны уже завязался бой. Шальк обнял винтовку левой рукой, улегся на бок и вытащил закурить.
— Слушай, Валентин, — сказал вдруг Шальк, — а для чего тебе кисет, если ты не куришь?
Валентин молча смотрел, как ловко шевелится папироса на губе у Шалька, пока тот рассуждает:
— Я вот уже год как хочу у тебя об этом спросить, да все не получалось: то забываю, то время не подходящее, то еще что-нибудь.
А Валентин с какой-то странной тоской предчувствия понял, что сейчас придется ответить. Долго он ждал этого вопроса и знал, что рано или поздно вопрос прозвучит, и отмолчаться будет нельзя.
Валентин сказал:
— Это мне сестра подарила, Маргарита.
— Хороший подарок, — похвалил Шальк.
— Знаешь что, Шальк, — сказал Валентин, — если со мной что-нибудь случится, ты этот кисет себе забери.