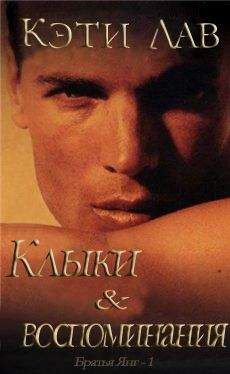Но все тайное, как известно, становится явным. Авантюра близилась к закономерному концу, и кое-кто уже злорадно потирал руки, предвкушая, как Сарафову придется из собственного кармана расплачиваться с бригадой оформителей. Хотя умеючи и не то можно. Главное, ручей учуять, по которому с тихим шелестом деньги текут, и ногой на него наступить - тогда купюры сами в кучку соберутся. Глаз у Сарафова все же профессиональный был углядел он на объекте небольшую группу людей значительного вида и в их числе одного, наиболее значительного.
- Ты, лысый, - заорал тому Сарафов, немедленно вычленив из группы, поди сюда!
Лысый - а он был председателем горисполкома и не каждый день его так запросто окликали - заинтересованно подошел.
- Вот, - возвестил Сарафов, оглядывая мэра восхищенно. - Именно такой образ мне нужен в центре. Не возражаешь попозировать? - И, небрежно ответив на шепоток приближенных: - Да плевать мне, кто он такой, меня не звания, а образ интересует, - моментально лысого в центр росписи втиснул; слегка над и сверх всей многофигурной композиции.
И, что характерно, роспись театра так за Сарафовым и осталась. Сам мэр сказал потом о ней застенчиво: "Мне кажется - ничего". И все с ним согласились.
Словом, было бы корыто. А корыто там и осталось.
Чего же прикажете ждать?
Девочка Марья, чего тебе надо? Кроме шоколада, которого все равно нет. Не надо ли денег, зеленых и красных бумажек? Не хочешь ли славы, чтобы метеором блеснуть в сером небе обыденной жизни? Или, может, любви, не той, что при деньгах и славе, а любви, которая сама по себе? Или любви всеобщей? Это исключительное чувство - всеобщая любовь. Ты в рубище, а тебя любят. Ты ничего не делаешь, а тебя любят. Ты преступление совершаешь, тать, злодей, а все равно любят, любят, встречая и провожая, любят в памяти и в надеждах, любят все до единого. Хотя, на мой взгляд, всеобщая любовь все-таки во многом сомнительна. И даже несколько противоестественна. Поэтому достигшие ее предпочитают любви - страх. Чтобы тебя боялись, а не ты, разумеется. Или взыскуют уважения. Или тишины, в келье под елью. А любовь - она слепа, только ненависть зряча.
Чего же надо тебе, Марьюшка? Может, хочешь просто быть сама собой? Но ведь этому как раз никто и не препятствует.
Только когда объявился Леха, вынырнув из травой поросшего прошлого, не Леха - Леонид Григорьевич, Марье ясно стало или показалось, что ясно, чего ждала она.
Если у нее не было судьбы - так, нелепо затянувшаяся ошибка, - то Мисюра пожить успел в полную меру, сгорел во весь накал. Познал свою судьбу, на "ты" с ней перешел, в необходимость собственную поверил. А покатился шаром с высокой крутой горы, теряя все на пути, лишь знания с собой унося. Но на что ему теперь знания? Только тягостнее от них, будто давит спину горб или крест. Только мучит, будто знание это трепетным огоньком сжигает изнутри: не зальешь, не затушишь. В индийской старой сказочке баба, принявшая семя бога, согнулась пополам, заорала: "Жжет!" и кинулась в реку, чтобы вымыть из себя огненное семя. А потом река родила того, кого смертное тело выносить не в силах. Каждому - его предел установлен.
И чувствуя, что тонет Леха, что надо его спасать или хотя бы пытаться спасать, Марьюшка вдруг поняла и другое: что у нее тоже появилась судьба. Что ее это тоже касается. Что может утянуть ее Леха за собой, уже утягивает: в пропасть, в прорубь, под лед. Туда, где чернота, темнота и блики света - как пузыри. Что утягивает он ее просто так, за компанию, для ровного счета. Отстраниться бы, только что еще могла предложить ей жизнь?
- Знать бы все тогда, двадцать лет назад, - рассуждал Мисюра, сидя в Марьином кресле под торшером на мраморной ноге, - может, и не гнал бы. Да кто мог подсказать, чем эти скачки кончатся? Спешил как голый в баню. Не продохнуть, не остановиться. На лету остановка - гибель. Смерть, распад, разрушение. Замедлить и то страшно, - откровенничал, - ведь есть черта, за которой падение. Страшно, понимаешь? Чувствуешь себя самолетиком между гималайскими пиками. Только бы не потерять скорость, высоту... Вот и хватаешь жизнь по капле, срываешь по листику на неповинном партнере. Тебя не стало - вычеркнул из памяти. Даже не помню как. С женой расстались - и не заметил когда. Все - мимо, мимо.
Марья слушала эти откровения молча. Прислушивалась к себе. Музыка отступала. Наплывала, накатывала волной кислая, едкая злоба. Теперь раздражал ее Леха, и ничего с собой не могла она поделать. Видела: жалкий, раздавленный. И ничуть не изменившийся. Как будто годы не прошли. Все как тогда, только на новом витке. Ищет себе оправдания, копается в прошлом самовлюбленно. Нашел кому мозги пудрить, идиот! Раньше не разглядела понятно, опыта не было. Зато теперь опыта - хоть большой ложкой ешь.
- Ты поезжай сегодня в гостиницу, Леха, - прервала она Мисюру. - Я устала. Доедешь сам? Или проводить?
Мисюра замолчал.
Потом послушно оделся и вышел.
И - почти сразу - зазвенел дверной звонок, ввинчивая шурупчиком свой звон в Марьин висок. Поняла: нет, не смогла отстраниться, - еще до того как открыла на звонок и увидела, что Леху привели, точнее, принесли обратно соседи-актеры Театра юного зрителя, возвращавшиеся с вечернего спектакля. Он упал на лестнице лицом вниз, не удержавшись за перила. Марья охнула: все лицо было в крови, стесал о ступеньки.
Дальше началась суета. Марьюшка побежала к телефону-автомату вызывать "скорую", потом - к Лехе, прикладывать марлю к тяжелому его лицу, потом опять вниз по лестнице: встречать врачей. Но "скорой" все не было и не было, как назло, и, совсем издергавшись, Марья поймала наконец такси. Повезла, почти недвижимого, не в больницу, почему-то - сама не знала почему - в клуб, к Асе Модестовне. Каникулы должны были кончиться только через четыре дня, но Марьюшка понадеялась, что пора уже, можно, все вернулось на прежние места.
И верно: Навьич открыл перед ней дверь, едва подкатило такси к знакомому крыльцу.
- Внизу Ася Модестовна, - закивал Марьюшке с усердием.
У самого клуба Леха ожил и вниз спускался почти самостоятельно.
- Сошествие во ад? - только и сказал. Одобрительно, пошутил будто.
Асмодеиха приходу Марьюшки совершенно не удивилась. Заулыбалась всеми своими округлостями, подскочила как мячик, помогла Мисюру на диван усадить.
- Что с ним? - спросила ласково, успокаивающе.
- Помогите! - взмолилась Марьюшка.
- Да вы не волнуйтесь, голубчик, не волнуйтесь, - замаячила Ася вокруг серого, в кровавых ссадинах лица мягкими своими ладонями.
"Боль снимает", - поняла Марья.
Мисюра, как ныряльщик, нырял в пустоту и выныривал. Отходил и снова выпадал.
- Сейчас, - сказала Ася Модестовна. - Здравствуйте, - это уже Лехе, я врач.