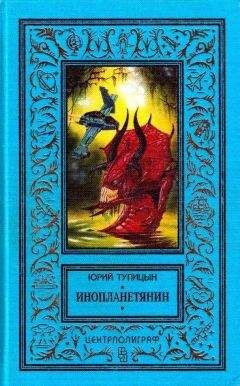— Я не француз, а канадец.
— Боже мой, это же одно и то же! Французы играют в шахматы так же отвратительно, как и канадцы. Такие богатые культурные традиции и такая безликость в благороднейшем из искусств!
— А Филидор, Лябурдоннэ?
— Вы бы еще вспомнили эпоху Карла Великого. Садитесь и чувствуйте себя желанным гостем.
Гостиная являла собой ярко выраженный модерн. Не говоря уже о мелочах, здесь был и ковер во весь пол, и огромная софа, на которой при нужде можно было уложить взвод солдат, и медвежья шкура перед софой.
Кроме коньяка и холодной воды со льдом Серлин подал еще и маленькую, только что открытую баночку черной икры, а к ней хлеб ослепительной белизны и крохотные серебряные ложечки с витыми ручками.
— Подарок русских друзей, — с некоторым самодовольством пояснил он.
Хойл осторожно, двумя пальцами взял голубую крышку, которой была прикрыта икра, и долго рассматривал причудливые черные буквы.
— Не понимаю, — вздохнул он, водворяя крышку на место, — почему они не перейдут на привычный для всего цивилизованного мира латинский алфавит.
— А почему англосаксы никак не перейдут окончательно на метры и килограммы? Почему они ездят не по правой, а по левой стороне дороги? рассмеялся Серлин. — Потом у русских куча звуков, для обозначения которых латинские буквы надо расходовать горстями. Знаете, например, как у них называется овощной суп из обыкновенной капусты?
— Капустный суп? — предположил Хойл.
— Русские не любят таких простых решений. — Серлин поднял палец и старательно, протяжно прошипел: — Щ-щи!
Рене не выдержал и залился смехом, он даже вынужден был поставить рюмку на стол, чтобы не расплескать драгоценную жидкость.
— Я тоже смеялся, когда услышал это впервые, — Серлин был доволен тем, что повеселил гостя, — представляете? Овощной суп и вдруг — щи! Что-то вроде змеиного шипения. Попробуй-ка это изобразить латинскими буквами!
Серлин не оставил эту тему и после того, как они выпили по рюмке коньяку.
— Если вы хотите хорошо играть в шахматы, вам придется выучить русский язык. Нет, я не говорю о том, что вы должны овладеть живой речью, но читать со словарем русскую шахматную литературу вы обязаны. Не подумайте, что я красный, упаси Бог! Но я реалист и не могу не уважать русских. Космос, атомная энергия, эти птицы мелководья — суда на подводных крыльях, вы обратили на них внимание? Но настоящие монополисты русские в одном — в шахматах. Анатолий Карпов — о-о!
— А Корчной?
Лицо Серлина приняло холодное выражение.
— Люди, меняющие отечество с легкостью перчаток, не популярны. Даже если они очень талантливы.
— А Фишер? Говорят, своим мастерством он похож на Капабланку, вскользь заметил журналист и раскаялся.
Серлина буквально передернуло, он чуть коньяк не пролил.
— Это говорят глупцы, — резко бросил он, глаза у него побелели. — Хосе Рауль был благородным человеком и артистом. Он творил свои шедевры за доской. И приходил он на игру не из кельи тренера и консультанта, а из будуара любовницы. А Фишер — бульдозер с программным управлением. А потом Фишер — шахматный труп. Зачем заниматься эксгумацией?
Серлин постепенно оттаивал.
Он поднял рюмку, глядя прямо в глаза Хойлу, и опрокинул ее в рот. Журналист хотел последовать его примеру, но в последний момент спохватился.
— А как же наша партия в шахматы? Я не сажусь за игру даже после одной рюмки, а это уже вторая.
Серлин взглянул на него с удивлением, которое постепенно сменялось одобрением.
— Шахматы этого заслуживают. — Он улыбнулся и поощрил: — Пейте. Партию мы перенесем на завтра.
— Что же мы будем делать сегодня?
— Отдыхать и говорить обо всем на свете!
Рене кивнул в знак согласия, опорожнил рюмку и проговорил:
— Не хочу хитрить с вами, Бенгт. Меня вполне устраивает ваше намерение. Дело в том, что я пришел к вам не столько для игры в шахматы, сколько для того, чтобы поговорить о Вильяме Грейвсе.
Секунду Серлин удивленно смотрел на него, потом нахмурился и сухо проговорил:
— Мне следовало догадаться об этом раньше.
— Поверьте, я взялся за дело Грейвса не только корысти ради. Все гораздо сложнее.
Рене сначала торопливо и несколько сбивчиво, а потом уже более толково рассказал кое-что из того, что ему было известно о деле Грейвса со слов Смита и Аттенборо.
— Нечто в этом роде довелось однажды услышать и мне, — задумчиво проговорил гроссмейстер. — Но я не отнесся к этому серьезно. Ядерный терроризм! Это нечто новое. — Он поднял на Хойла внимательные светлые глаза. — А вы действительно журналист?
Рене развел руками, достал из кармана документы и протянул их через столик собеседнику.
— Прошу.
Тот взял их с неохотой, но просмотрел очень внимательно, а возвращая владельцу, заметил вполголоса:
— В наше время нетрудно подделать любые документы.
— Я дам вам телефон редакции. Он есть в официальном справочнике. Вы можете позвонить моему шефу хоть сейчас. Он всегда торчит вечерами в своем кабинете.
— Ну хорошо. Что вам конкретно от меня нужно? — после некоторого раздумья согласился Серлин.
Рене облегченно вздохнул и устроился поудобнее в кресле.
— Сведения о Вильяме Грейвсе. Любые, какими вы располагаете. В частности, о том, какое отношение имеют его ядерные изыскания к шахматам и шахматистам.
— Да я и сам этого не понимаю! — с сердцем воскликнул Серлин.
С Грейвсом Бенгт виделся лично всего один раз. Их представили друг другу на каком-то торжественном приеме, устроенном по случаю окончания очередного зонального турнира. Серлин выступил на нем успешно, вошел в число участников межзонального турнира, а поэтому был в отличном настроении. И Вильям Грейвс был в отличном настроении. Он просто очаровал гроссмейстера меткостью характеристик, небанальным остроумием и какой-то зверской беспощадностью суждений о проблемах, которые принято либо замалчивать, либо как-то приукрашивать. Видно было, что это всесторонне образованный человек. Но самое главное, он очень интересно, по-своему, говорил о шахматах. Он утверждал, и Серлину это было близко и понятно, что шахматная игра — это своеобразный динамический слепок бытия, слепок условный, но многогранный и неисчерпаемый, как сама жизнь.
— Мне трудно сейчас вспомнить теорию, которую он мне изложил тогда так живо и увлекательно, — рассказывал гроссмейстер, — но суть ее сводится к тому, как реальные события переводятся на машинный язык, скажем, на алгол или фортран, так эти события можно перевести на язык шахмат, закодировать их с помощью шахматных фигур в той или иной композиции. Задачи, сформулированные на машинных языках, решают компьютеры, а возможности их ограниченны, логика примитивна. Они не могут прыгнуть выше алгоритма, вложенного в них программистом.