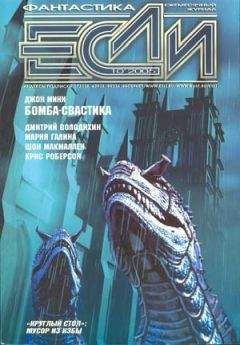В «нормативной» реальности Добровольческая армия так и не дошла до Тулы.
Орудия смолкли. Алферьев подал команду.
— Корниловцы, вперед!
До чего страшно было бежать через площадь, усыпанную мертвецами! Казалось, все пулеметные команды мира сейчас выцеливают меня. Мы ворвались в кремль через пролом, и через час латышской дивизии не существовало.
* * *
…После того, как нас выбили из города и стало ясно, что наступлению конец, что не откроет перед нами ворота Белокаменная, Яшка Трефолев отыскал меня и заговорил, от горячности глотая слова, путая падежи:
— …Ты слышишь?! Я все равно останусь с ними! Я хочу остаться с этими люди… с такими людьми нельзя не остаться, слышишь ты, Миша! Я тут… я останусь тут с ними до конца. До самого конца! И пусть убьют, если надо, пусть убьют! Я верю, мы все равно одолеем этих… этих…
Я положил ему руку на плечо и ответил:
— Я, наверное, тоже останусь, Яша.
Хотя уверенности в победе у меня не было. Ни малейшей.
29 марта 1920 года, Феодосия
— Боже мой, какой идиот! — бесстрастно сказал Вайскопф, подавая всему взводу дурной пример.
Но что правда, то правда. На феодосийской пристани стоял не кто иной, как генерал Май-Маевский, вчистую отставленный от дел и теперь возомнивший, что сможет поднять нам настроение своей грузной фигурой, облаченной в корниловский мундир, да еще воплями:
— Здравствуйте, мои родные! Мои родные корниловцы!
Оркестр играл корниловский марш — то ли в честь появления генерала в порту, то ли в честь нашего позора, то ли в честь того отрадного факта, что некоторые из корниловцев все еще живы. Глядя на толстяка, от энтузиазма схватившего фуражку за козырек и размахивавшего ею над головой, я все острее и острее переживал злое, нехристианское чувство: «Жаль, что не пристрелили тебя, урод!».
Двое из наших, хроноинвэйдоров, тайно поделились со мной планом добраться до Май-Маевского и пустить ему пулю в голову, не считаясь с тем, что сами они при этом не вернутся домой. Где-то теперь их могилы! Этому человеку, не самому плохому военачальнику, знававшему когда-то победы, да и не самому скверному по характеру и способностям своим, судьба вручила ношу не по силам. Он пытался взять Москву, будучи в лучшем случае хорошим дивизионным командиром. Ни ума его, ни силы воли, ни способностей не хватило для того, чтобы выдержать на плечах груз общерусской судьбы. Его выбросили из армии с формулировкой «за кутежи и развал тыла». И впрямь, он был запойным пьяницей, но правда состоит в другом: Май-Маевский перестал командовать армией в тот момент, когда ее отделяло от сердца России несколько часов езды по железной дороге…
Я не хочу рассказывать о тех несчастиях, которые постигли нашу армию после сдачи Орла. Слишком гадостно. К тому же у меня в памяти слились в унылое озеро дни и недели, проведенные на морозе без пищи, шинели, снятые с мертвецов, беспорядочные бои с красными, когда мы, «цветные»[1] дивизии, прикрывали отступление всех остальных, смерть Епифаньева от случайной пули на Тамани, смерть многих отважных и благородных людей от холода и голода, суетливое воровство наших же, белых интендантов, отчаяние и тоску, тоску страшную, ноющую в душе, как ноет гнойный нарыв на ступне, давно прорвавшийся, полузалеченный, а потом растертый портянкой до состояния безобразной язвы, поминутно дающей о себе знать.
Под Ростовом я совсем было собрался вернуться в 2005-й год. Но в день, когда я планировал совершить это, рядом со мной разорвался снаряд, а дальше… дальше чернота с редкими проблесками. Потом ребята рассказали, что Епифаньев и Евсеичев тащили меня с версту, если не больше. Как их бросить после такого?
На протяжении нескольких дней я отходил от той контузии. Голова трещала миллиардами зимних цикад. В общем-то повезло: ни единой царапины, только сапожную подметку оторвало, и мизинец оказался обмороженным. Почернел, тьфу, гадость…
То ли в декабре, то ли в январе, когда мы были еще относительно боеспособны, командир полка есаул Милеев отправил нашу роту в разведку. Нас посадили на платформы, прицепленные к бронепоезду, и рота поехала на север — выяснять, какова дистанция от нас до авангарда красных. Стоял лютейший мороз, дышать было трудно, губы трескались, руки-ноги стыли мертвецки. Вьюжило. Бронированная корма состава худо защищала нас от ветра.
Вдруг поезд затормозил в чистом поле. Ни села, ни города, ни станции, ни даже малейшего хуторка.
— Красные? — неосторожно задаю вопрос Алферьеву. Не то чтобы конкретно Алферьеву, просто он услышал мой вопрос и истолковал его к военной пользе:
— Сходи-ка с Евсеичевым. Узнаешь и мне доложишь.
Мы опасливо спрыгнули с платформы. Неровен час, уйдет железная гусеница, а мы останемся тут вдвоем — воевать с товарищем Буденным… Впрочем, когда Евсеичев изложил мне все это, я по наивности ответил ему:
— Нас не бросят.
Впереди на путях чернели теплушки. Мы подошли поближе.
Пять теплушек без паровоза, оставленные отступающими частями давным-давно, с погасшими печами. Они были набиты трупами донских казаков, алексеевских стрелков, офицеров… Сутки назад эти люди составляли главный груз санитарного поезда. Теперь, на заснеженной равнине, санитарный поезд превратился в армейское кладбище. По мертвым телам деловито сновали крысы, им было все равно, у кого отъедать носы и щеки — у бывшего полковника Генерального штаба или простого донца… Пасюкам крупно повезло. Столько еды в голодную зиму!
В последнем вагоне еще чадила печурка. Сестра милосердия топила ее одеждой, снятой с покойников. К теплу сползлись раненые, упрямо цеплявшиеся за жизнь, человек десять. Услышав, как мы подходим, заглядываем внутрь, сестра с трудом выкарабкалась из теплушки и, не признав за вьюжной кисеей корниловцев, заговорила строго;
— Не студите! Они и так едва живы. Отчего вас так долго не было, Василий Васильевич? Ведь это срам! Не давать угля для состава с ранеными… о-ох! Кто вы?
Мы представились.
— Слава Богу! Я, конечно, верила, что Василий Васильевич пришлет помощь, но не ждала подобного промедления… Вас ведь послал Василий Васильевич?
— Простите, госпожа… — полувопросительно начал я.
— Савельева. Екатерина Савельева.
— Простите, госпожа Савельева, но мы не знаем никакого Василия Васильевича и на вас наткнулись случайно.
Она молчала несколько мгновений, а я смотрел в ее лицо. Это было лицо барышни, знавшей достаток, спокойную жизнь в большом городе — лицо правильное, аристократичное, ухоженное. Поверх белого платка Екатерина Савельева надела простонародный треух, а на плечах ее была солдатская шинель. Темно-русые волосы выбивались из-под треуха. На вид я бы дал сестре милосердия лет двадцать пять. Надо же! Мужчины покинули поезд, а она не побоялась остаться с сотнями мертвых и умирающих… Сейчас она смотрела нам под ноги, не зная, как скрыть свой гнев.