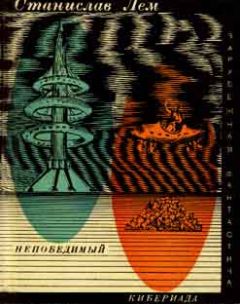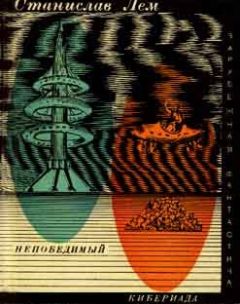А что ж это за музыка гармонограммическо-гармоническая? — спрашиваю снова и слышу в ответ: Персону она сопрягает с Природой и претворяет Грез Рой в Рай Земной, так что беги, не мешкай, ведь пособить в таком деле — галактическая заслуга!
Бегу, бегу — но, досточтимый тошняк, еще хотел бы я знать, каким это образом держава, то бишь Держаба Гафния заполучила партитуру Сфер и гармонию оных, откуда она у них завелась? Ба! — ответствует мне тошняга, есть у них обычаи древние, указания верные, ведь играть-то они завсегда играли, только не так, не на том и не тем манером, каким надлежит, но теперь они в курсе, и от музыки ихней грудь спирает, дух замирает, очи внутрь, а уши вширь, так спеши же, мой колотун, а тоне поспеешь на репетицию!
Позволь, позволь, говорю, я тебе не колотун какой-то, а первой гильдии маэстро из симфонического оркестра, но расскажи, ради Бога, еще хоть малость о гафнийских обычаях, чтобы мне там в грязь лицом не ударить!
Ох, некогда мне, отвечает, ступай, да живее, и, право, будешь мне благодарен по гроб!
Пустился я в путь, и вот, когда уже обозначились очертанья планета (ибо Держаба — не какая-нибудь женская, простая планета, но мужской, хоть и крохотный, сугубо мужской планет) и показалась Ограда Громадная Мраморная, на которой горела золотом надпись: «КОРОННЫЙ КОНСЕРВАТОРИУМ», — неподалеку заприметил я деревянную, маслом покрашенную повозку, а на ней — крайне утомленного робота; он искался — страдая, по дряхлости лет, от опилок, вгрызавшихся во все его шестеренки; я помог ему очистить суставы и сочленения, а он между тем что-то тихонько мурлыкал. Я спросил — что, он ответил: Масличную песнь! Не знал я такую. Стал я выспрашивать о Гафнии, он же был глуховат и велел повторять каждое слово четырежды, а потом говорит мне: Ударник! Ты молод, проворен, дюж и ногаст, ты выдержишь многое! Не буду тебя отговаривать от посещения Гафния, но уговаривать тоже не буду. Как решишь, так и сделаешь. — Верно ли, что там играют? — А как же, с ночи до утра и с утра до ночи, однако во всякой стране особый обычай, и вот тебе мой совет: молчи. Что бы ты ни узрел — ни слова. Что бы тебе ни казалось — ни звука. Ни гугу! Воды в рот, язык на замок, немотою запечатай уста, тогда, может статься, расскажешь когда-нибудь, что там увидел, во что там играл! И сколь ни просил я его, сколь ни молил, сколь ни увещевал, он уже ни слова не проронил.
Что ж, вот тут-то я загорелся, и лютое одолело меня любопытство, хотя не скажу, чтобы в золотые ворота Гафния я стучал совершенно спокойный, ибо чувствовал кожей: скрыта за ними бездонная некая тайна! Все-таки принялся я колотить колотушкой из чистого золота, звон же ее был чуден и бодрил дух, и стража весьма охотно меня впустила и приветливо молвила: Видишь дверь? вали туда смело. А уже и сени тут были дивные — уже стоял я в густоколонной громаде, сокровищами сверкающей; не сени, а храм, и кругом золотые инструменты висят! Я в дверь; вхожу — и глаза зажмурил, такой ослепил меня блеск — от алебастра, и оникса, и серебра; вокруг колонн чащоба, я на дне амфитеатра стою, о Боже, да это пропасть, бездна, знать, веками сверлили они свой планет и в середке устроили Филармонию! Нету здесь мест для публики, только для оркестрантов, кому кресла, кому табуреты, дамастом в серебряный горошек застеленные и рубином присыпанные, и для нот стояки изящные, и плевательницы среброкованые для духанщиков, как-то: трубодеров, трубодувов и фанфаронов, а потолочье брильянтит пауками-подсвечниками, каждый радужно люстрится, и в холодном блеске огней — ничего, ни зала, ни галереи, только в стене напротив оркестра во всю ширину — ложа одна-одинешенька: красное дерево, с тисненьем материя, амуры в раковины дуют, бордюры да кисти, а ложа закрыта портьерой парчовой, а шитье на ней виольное да бемольное, и месяц новый, и гирьки свинцовые, и пальмы в кадках величиной с дом, а за портьерою, верно, трон, только задернута она, и ничего не видать. Но я-то мигом смекнул, что это и есть королевская ложа! И еще вижу на дне амфитеатра дирижерский пюпитр, да не простой, а под балдахином хрустальным, ну прямо алтарь, а над ним надпись неоном: CAPELLOMAYSTERI UM BONISSIMUS ORBIS TOTIUS!
То есть, значит, лучший на свете капельмейстер, или бригадир оркестра. Музыкантов тьма, но на меня никакого вниманья, одеты как-то чудно, с пестротою ливрейной и либеральной; у одного икры обтянуты белыми чулками в сплошных фа и соль, но заштопанными; у другого туфли с золотой пряжкой в виде нижнего до, но каблук стесался; у третьего колпак с плюмажем, но перья трачены молью; и не вижу ни одного, кто бы прямо держался, так их тянут вперед ордена, сукном подложенные, верно, чтобы бряканье не портило музыки! Обо всем позаботились тут! Знать, доброй души монарх, меломан щедрый, и сыплются градом награды на господ музыкантов! Протискиваюсь несмело в толкучке и вижу — перерыв в репетиции, все разом галдят, а капельмейстер в пенсне золотом поучает из-под своего балдахина алтарно-хрустального. И не палочка в перчатчатом его кулаке — скорее уж палица; что ж, не мне махать, а ему, умахается — его забота. Зал громадный и исключительно, должно полагать, акустичный! Играть разбирает охота… а капельмейстер, застопорив на мне быстролетный взор, молвит приветно издали: а, новичок? Хорошо! Что умеешь — арфач? Что, ударник? Тогда садись вон там, как раз выбыл у нас ударник, посмотрим, справишься ли! — Садитесь же, сударь! — Господин виолончелист, не толкайтесь! — И вижу: беззастенчивая виолончель что-то дирижеру в лапу сует — какой-то пухлый конверт — письмо концертное ему написал, или как? — Впрочем, ведь я ничего не знаю еще… сажусь. А капельмейстер говорит сотне сразу: — Кларнет! Не дыдурыду-выду-дыдудым, а дидуриду-виду-бидупиим! Это вам не завитушки кремовые на торте, сударь, это виваче, но не МОЛЬТО виваче — или уши у вас дубовые?! А дальше трилли-трулли-фрулли-фрам, и это не фиоритура, здесь надобно вступать мягше, ради Бога, мягонечко, и веди ровно, но не верхами, тут мягонько, а там как сталь! И трилли-рида-падабраббам! А вы, медные, тихо, не заглушайте мне пикколо в шестнадцатых, ведь гробите лейтмотив! не глушите, говорю; так что вижу я, что манеры здесь самые обыкновенные и разговоры в точности те же, что во всех филармониях Универсума.
Сижу я так посреди шума-гомона и осматриваюсь. Сперва глянул на барабан: больно уж странен! Не простой, а капитально усиленный, бока могучие, круглые, тугие, выпуклые, ну прямо бесстыдно-бабские, лазоревые, со шнурами, обшитыми золотым дубовым листом, а уж пленка натянута без изъяна, звончатая, перепончатая, ох, и гулким, поди, перегудом гудит!!
Смотрю, а тут и партитуру несут, не обычную, но сущий фолиант, книжищу, в рысью шкуру оправленную, а на конце хвоста — кисть, а к кисти платочек привязан, для отирания обильного пота после финала! Обо всем тут, видать, подумали! И куда ни глянь, алебастры, гербы, грифоны, грудастые музы, кариатиды, фавны, венеры, бомбоньеры, тритоны, бом-брам-стеньги, гроты, прианы, стаксели, брамсели, бизань-мачты, бейдевинды, швартовы — плыви, плыви, музыка! А над королевской ложею герб государства — держабный коготь в венце червонного золота, и колыхнулась портьера ложи, словно сидит уже там Гармонарх, да прячется. От нас?.. Но уже Капельмейстер в пенсне, гибкий, юркий, спешный и вездесущий, внимание! кричит, по местам! И: начинаем! за дело! Все помчались, бегут, бренчливо инструменты настраивают, я — за палочки, а это не палочки, но сущие обухи-дроболомы! Колья гремучие! Прилаживаю ноты, поплевываю в кулак и на партитуру смотрю, как баран на новые ворота, капельмейстер «уно, дуо, тре» кричит, и постукивает, и золотым пенсне посверкивает на нас, и вдруг вступают скрибки… но что это? Хотя и дирижирует капельмейстер, ничего не слыхать, кроме наждачного какого-то скреба… ох, и скребят же эти скрибки… струны, что ли, запакостились? А вот и мой черед, и опускаю я руки, чтобы бабахнуть, и ударяю вовсю, а слышу только «тсстук, тсстук», как будто бы в дверь, смотрю, а барабан хоть бы дрогнул, поверхность какая-то жесткая, гладкая, как пруд замерзший, как торт, ничего не пойму, и снова «стук! стук!», немного будет от этого толку, думаю, а тут оркестр вступает, дребезжит, верезжит, дудонит, долбахает, и вижу — вот те на! — тромбонист тромбону помогает губами «бу-бу-бу», а скребачи губки бантиком и: «титити», сами напевают, немым инструментам спешат на подмогу, ну и игра! а капельмейстер вслушивается, и вдруг по пюпитру бац! и молвит: Нет. Ах, не так! Плохо. Da capo.[22] Ну, мы опять, а он из-за пюпитра выходит, и вступает меж нас, и прохаживается, ухом ловит скрип и скреб, а после подходит — улыбаясь, но криво — и валторниста за щеку, словно клещами, ой, так скрутил-закрутил, что игрец дыханья лишился; идет и ухо гобою обрывает походя, и тут же палкой бац! вторую скрибку по голове, зашатался скребач, и платок у него из-под подбородка вылетел, и вызвонил он зубами туш, а капельмейстер тромбонам и прочим шепчет из-под пенсне: олухи! Что за бедлам! И это называется музыка?! Играть, играть у меня, не то Гармонарх проснется, и тогда уж мы запоем! И говорит: как Капельмейстер Дирижериссимус требую! Напоминаю и повторяю: сыграем Увертюрную Симфонию Тишины! Продолжайте силентиссимо, аллегро виваче, кон брио, но и пьяно, пьяниссимо, потому что chi va piano, va sano.[23] А, понимаю, шутка! Шутит с нами, ибо Душою Добр! Говорит: Господа! Валторнист, Арфач, Тромбон и ты, Кларнет Эдакой! И вы, Клавикорды-Милорды, больше старания! Медные, плавно! Внимательней, Пикколо, а вы. Виола с Виолончелью, нежнее! А ты, фортепьяно, то бишь Громкотих, следи за сурдиной! Подходит к пюпитру и снова стучит: под Управлением Нашим, по Команде Моей, к Гармонии Сфер, за мною — играть! Играем. Однако ж по-прежнему ничего не слыхать кроме стука, скреба и хряпа, ничегохонько! И отправляется дирижер в оркестр, улыбаясь, и мятные леденцы раздает, но кому леденец, тому и палкой немедля по лбу. Головы гудом гудят! С лицом озабоченным бьет и понять нам дает, и точно, мы понимаем, что не своею волею лупит, но чтобы не было ущерба Величеству, бьет от Имени, дабы не допустить какофонии до гармонаршего уха, а лупимый съеживается и капельмейстеру отвечает улыбкой умильной и кроткой, тот же, с равносильной улыбкой, угощает и бац! ибо не от себя дубасит, но дабы не допустить, уберечь, а может, чтобы худшей трепки, Настоящего Кнута избежать… Знаю, потому что в перерыве судачат игрецы меж собой, друг дружке пластыри прилепляя подле моего барабана: он добрый, наш Капельмейстер, ведь написано ясно: Bonissimus, но вынужден так, чтобы Гармонарх не разгневался, и вправду, вижу я надпись «Capellenmaysterium bonissimum», ей-ей, славный, говорят, дирижер, и сердце у него золотое, но должен охаживать, чтобы нам. Кто другой не заехал по лбу! Кто, кто такой? — любопытствую; не отвечает никто. Что до битья, это я понял, однако же с музыкой не могу разобраться, кругом только лязг, и бряк, и дребезг невыносимый, а мы играем себе. Пенсне блистает, бегает, бацает, и, хотя трещат наши лбы, понимаем, что так и должно быть; но тут шевельнулась Портьера Ложи и оттуда выглядывает Пятка Большая, Босая и некоторым образом Голая, но не какая-нибудь уличная, рядовая, а Помазанная, в Коронной Пижаме, из штанины Тронной торчащая, и поворачивается она, и раздвигаются складки портьеры, а за нею храп, и не трон, но ложе в золоте и розанчиках, с отливом дамассе пододеяльник, а на златой простыне Гармонарх, симфонически утомленный, спит, в думку бархатную уткнувшись, — спит, и более ничего, а мы под Пятою пьяно, пьяниссимо, чтобы не разбудить. Понарошку?.. Ага, понимаю, понарошечная репетиция! Хорошо, но битье-то не понарошечное? И отчего волоса нет на смычках, а барабан мой вроде старой доски?