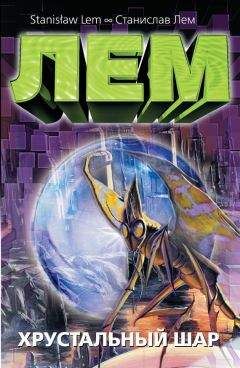Перевод Борисова В.И.
С того момента, когда на двенадцатом году нашего путешествия мы превысили скорость света, явно улучшилось настроение нашего главного астромотора Йюпюгюпия. Это было ясно видно по тому, как он расчесывал свою длинную светлую бороду специальным автоматическим приспособлением.
Мы все были на большом балу, который давал Совет астромоторов. Пьянящие звуки Девятой симфонии Бетховена вызывали в душах всех пассажиров «Геи» некую астрономическую грусть, которая четко контрастировала с веселым рычанием львов, подготовленных для этого вечера командой видеопластиков. Когда одно животное с хрустом съело родившегося на «Гее» двухлетнего сына математика Рамола, многие посчитали, что иллюзия зашла слишком далеко. Однако все разъяснилось, когда через минуту мальчик появился здоровым и невредимым, восклицая: «Подставьте вместо планетоидов Магелланово облако», – и тем самым внес сумятицу.
Оркестр прервал Девятую, танцы прекратились. Сильнейшие математики заскрипели искусственными мозгами: одним этим предложением гениальный ребенок подсказал им выход из ситуации, который они безуспешно искали на протяжении нескольких миллиардов туманностей.
Искусственное солнце на экране моей души уступило место искусственной луне и настоящей хандре. Медленным шагом я покинул бальный зал и остановился на краю зарослей фикуса, отделявших ледяные вершины созданного видеопластиками Памира от не менее искусственной реальности. В покрытой льдом расщелине стояла Цепеллия, жена Джимбира. Обратив голубые глаза к Млечному Пути, она делала вид, что мы незнакомы, – таково было соглашение, которого строго придерживались все жители «Геи».
Я приблизился к ней. Слова были излишни. Стремительным движением обнял ее за талию и почувствовал, как стала резко усиливаться дрожь в теле женщины.
«А ведь не линейно», – подумал я, возбуждаясь, но тут все мое естество охватила космическая слабость. На только что ионизированном экране моего мозга появилось осознание страшного: я забыл подзарядиться.
В этот момент услышал предупредительный свист. Это Джимбир приложил ко мне необычную силу ускорения.
Перевод Язневича В.И.
Язневич В.И
Станислав Лем: начало
«Случаю, то есть особому расположению генов, было угодно одарить меня способностями, которые в двадцатом столетии соответствовали писательскому призванию. И призвание это было где-то на пограничье между искусством и наукой. Вот почему я обратился к научной фантастике, принимаемой, однако, смертельно серьезно, даже если это была фантастика на юмористический лад. Устройство моего духа мне было дано от рождения, на устройство мира я никакого влияния не имел. Таковы две random variables[180] исходно независимые переменные; у меня была возможность в известной степени коррелировать их».
Станислав Лем родился 12 сентября 1921 года во Львове – в то время территория Польши – в семье Самуэля (1879–1954) и Сабины (1892–1979) Лем, в доме, принадлежавшем раньше родителям отца. В нем же Станислав, или, как его называли близкие, Сташек, единственный ребенок в семье, провел все детство и юность. Предками его были ассимилировавшиеся евреи. Отец, Samuel Lem, или Lehm – такой была фамилия во времена, когда Львов входил в состав Австро-Венгерской империи, – был уважаемым в городе и весьма зажиточным врачом-ларингологом, не лишенным литературного таланта: в молодости в львовской прессе печатал стихи и рассказы, а «в довоенные годы медицина исполняла функции посредника между наукой и искусством». Довелось ему поучаствовать и в Первой мировой войне – в качестве врача в австро-венгерской армии; побывал и в российском плену, в том числе в лагере в Туркестане; чудом остался жив. После возвращения из плена был награжден австро-венгерским «Золотым Крестом Заслуги» на ленте «Медали за Отвагу». Мать была домохозяйкой.
В довольно-таки бедной стране, каковой была в то время Польша, благодаря отцу Сташек ни в чем не испытывал недостатка. У него была французская гувернантка, множество игрушек и книг. Уже в четыре года он научился читать, а к десяти годам стал настоящим «пожирателем всяких книг». Имея свободный доступ к обширной домашней библиотеке, он читал все, что попадало в руки. Начинал, конечно, с детских книг, а потом, взрослея, принялся за шедевры национальной поэзии, романы, научно-популярные книги, к которым имел явную склонность, включая работы в области астрофизики. Изучал и многочисленные анатомические атласы. Он обладал настоящим сокровищем – энциклопедией «Чудеса природы», которую ему подарил отец и продав которую в то время можно было купить хороший костюм. Наибольшее влияние на сына имел отец – «умеренный пилсудчик». (Кстати, уже с высоты прожитых лет Станислав Лем очень высоко ценил первого главу возрожденного польского государства, маршала Польши: «Величайшим поляком ХХ века для меня является Юзеф Пилсудский. С перспективы 1920-х годов он единственный, кто по-настоящему видел угрозы нашей стране, и он единственный, пусть и безуспешно, пытался найти способы, которые обеспечили бы действенное противодействие этим угрозам».)
Станислав Лем учился в начальной школе им. С. Жулкевского, а затем в гимназии им. К. Шайнохи во Львове. Был хорошим учеником, а уровень его интеллекта во время обследования воспитанников гимназий в 1936–1937 годах оценили в 180 пунктов, что явилось лучшим результатом во всей южной Польше. Вспоминая свои детские годы, Станислав Лем отмечал: «По-настоящему сложные времена наступили для меня только в школьные годы. Методы воспитания в то время были значительно более строгими, воспитанием в определенной степени занималось все общество, а не только семья: например, в гимназии существенно более значительным, чем сейчас, был авторитет учителя. Много элементов общественного устройства предвоенной Польши непосредственным образом реально воздействовало на стиль и смысл воспитания – результатом был даже и патриотизм. Я представлял собой типичный пример «буржуазного ребенка» и дома контролировался двусторонне: француженкой, совершенно не знавшей польского языка, которая погружала меня в язык парижан, и репетитором, студентом-юристом, следившим, чтобы я выполнял все, что было задано. Как мне, однако, в то время удавалось выполнять химические, электрические и авиационные эксперименты (летал не я сам, а мои самолетики) и к тому же еще конструировать много удивительных механизмов – не знаю».
На гимназические годы приходится и первый литературный опыт будущего писателя, о котором он так вспоминал: «Когда мне было двенадцать лет и я учился в первом классе гимназии, в подарок от отца получил первую пишущую машинку марки «Ундервуд» и на ней напечатал первые литературные произведения. На каникулах я с матерью был в Чарнохоже, в наиболее вытянувшейся на юг части Карпат. Там спиливали деревья, которые спускали в долину по узкоколейке без локомотива, для чего усаживались на штабель бревен, был там и тормозящий, ездили по очень крутым дорогам – все это произвело на меня огромное впечатление. И я решил тогда все это описать на моей машинке и в какой-то момент открыл для себя, что, описывая, вовсе не обязан полностью придерживаться того, что было в действительности, а могу выдумывать события, которые не происходили: что вагон бежал совсем в другую сторону и вообще что это был не вагон. Я почувствовал себя окрыленным и восхищенным тем, что этими словами, выстукиваемыми на машинке, я могу создавать не существующую, выдуманную мной самим действительность. Начал писать, причем не знаю почему, но мне это показалось необычайно увлекательным, и когда отец зашел в комнату, он застал меня смеющимся над машинкой. Я был восхищен не столько собой, сколько этим моим произведением».