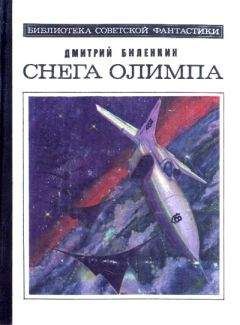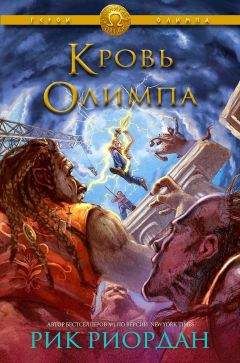— Фью! — разочарованно присвистнул Темин. — Это идея примитивных фантастических романов — какой-нибудь там памятник на оборотной стороне Луны.
— Нет, это совершенно другое.
— Все равно примитив. Уж лучше киберпришелец в маске. Не существует конверта, который бы сохранил послание. Горы? Они рассыпаются за миллионы лет. Спутники? Время растворяет их, как сахар в кипятке.
— И все же материал, для которого десятки, даже сотни миллионов, лет ничто — существует. Это живое вещество.
Крякнув, Темин уставился на профессора, очки которого пылали розовым отблеском костра.
— Я — пас. — Темин лег. — Ты побил все рекорды фантазии.
— Да открой же в конце концов глаза! — рявкнул Игин. Сильным ударом палки он выбил из костра сноп искр. — Чем оригинальней идея, тем чаще она в первую минуту воспринимается как глупость, но ты же умный человек! Чем отличается современная латимерия от той, что жила двести миллионов лет назад? Практически ничем. А скорпион, который благополучно существует триста миллионов лет, перенес все геологические катаклизмы и на наши штучки с загрязнением природы взирает с ленивым благодушием: «Ничего, и не такое бывало — перезимуем». Вот готовые конверты, куда лишь остается вложить письмо.
— Ничего себе — вложить, — смущенно пробормотал Темин. — Между теперешним скорпионом и древним — миллионы трупов. Это вам не эстафета.
— Как раз эстафета, именно эстафета! Передача одних и тех же признаков, генетическая цепь, протянутая сквозь геологические эпохи. Предположим, на Земле побывали пришельцы. Кругом бродят динозавры, разум когда-то будет, надо оставить ему послание. Берут они того же скорпиона и вносят в его генетическую программу такие коррективы, которые превращают его в живого робота. Сменяются миллионы лет, ползают по земле существа, никакие они не пришельцы, только есть у них какие-то непонятные ученым органы. Кстати, такие органы есть у многих древних животных. Разумеется, мы полагаем, что эти загадочные устройства зачем-то нужны, мы даже объясняем их назначение. А если не так? А если это анализаторы, встроенные чужим разумом? А вдруг они предназначены для анализа нашей речи, радиопередач или еще чего-нибудь? И есть устройство, посредством которого сквозь время до нас дойдет голос иного разума?
— Ува-у! — взревел Темин. — Хорошо, что этого нет!
— Нет, потому что не может быть никогда?
— Не потому. Сколько тысячелетий прошло, а ни звука.
— И молвил кот человеческим голосом: «Я к вам с приветом от сириусян». Его — за связь с дьяволом — в костер.
Темин задумался. Жарко пылали угли костра, и тем гуще, чернее казалась ночь. Темно и тихо было над озером, над лесом, так тихо, что в душу невольно закрадывалась жуть. И так спокойно, что эта капелька жути была приятна, как горечь в табаке. Темин встал и сладко, долго потянулся.
— Развлечения тела и духа, — сказал он, зевая. — Сначала, как велит материализм, тела, а уж потом духа. Очень приятно пофилософствовали. Однако, пожалуй, и спать пора?
Игин кивнул.
— Здравая мысль.
Немного помедлив, он поднялся, залил костер.
— Точно живое существо убиваешь… — пробормотал он, когда с шипением угас последний уголек.
Темин в знак согласия наклонил голову.
— Хорошо-то как, — вздохнул Темин, умащиваясь в спальном мешке. Встанем на зорьке, рыба будет играть, туман над водой — прелесть.
— Уже сплю, — сонно отозвался профессор.
Совсем тихо стало на озере. Спал воздух, дремали сосны, в излучине над болотцем слабо белела полоса тумана, и только в воде мерцало отражение звезд, да в омуте чуть слышно плескалась ночная рыба.
Потом зазвучал Голос:
— Мы изучили ваш разговор, мы долго ждали понимания, к вам обращается разум иного мира, это попытка контакта сквозь время…
Голос, негромкий, отчетливый в тишине, исходил оттуда, где в топком иле вяло копошились раки — существа куда более древние, чем первые поселения человека. Голос прошелестел над озером, взмыл над соснами, проник в палатку, коснулся ушей.
Но не получил ответа, ибо сон на озере после хорошего дня быстр, глубок и безмятежен.
Полный оборот каждые семь с половиной минут. Третий месяц над ним кружили звезды. Третий месяц он был центром вращения светил, осью мироздания, избранником птолемеевской вселенной. В подлинной он значил меньше пылинки, и у него болели сломанные ребра.
Девятнадцать шагов по периметру тесных отсеков, четыре поперек и еще один вверх — здесь он почти ничего не весил. Ему уже не верилось, что в былой жизни он мог летать куда хотел, общался с людьми, волновался по пустякам и даже любил петь под гитару. Девятнадцать — четыре — один. Вперед и назад, туда и обратно, все. И навсегда.
От того, что было сразу после аварии, сохранилось впечатление долгих обмороков и мук, когда он ползал по разбитому кораблю, тщетно звал друзей, а глаза застилал липкий туман. Правда, действительность, видимо, была несколько иной. В те первые часы, как потом выяснилось, он сделал чудовищно много. Он еще помнил, как волочил протекторный баллон, как заделывал трещины, не очень даже соображая, чего ради пытается стать на ноги и поднять фыркающий пеной баллон. Но от стараний дать помещению тепло и воздух в памяти уцелели лишь проблески усилий отвернуть какой-то вентиль и тупое недоумение, с которым он разглядывал крошево деталей в агрегате, чье назначение ему, конечно, было известно когда-то.
Много поздней он поставил себе диагноз: сотрясение мозга. Мелкие повреждения вроде перелома двух-трех ребер были уже не в счет. А вот определить причину аварии он так и не смог. Была ли она связана с маневром близ астероида и, следовательно, с ошибкой пилота? Или в критический момент сработал не так, как надо, двигатель? Разумеется, все это могла бы выяснить комиссия экспертов, но случай приведет ее сюда не раньше чем через десятки, а то и сотни лет.
Не удалось ему установить и то, как погибли двое его друзей. Их не было рядом, когда произошла катастрофа, — это он помнил. Но почему? Так или иначе они остались в отсеке, по которому пришелся удар. Возможно, их вынесло оттуда струей воздуха. Однако он предпочитал думать, что они погребены под обломками, потому что если их вынесло наружу, то скорей всего зашвырнуло на орбиту, и он видит их тела точками среди звезд, когда смотрит в чудом уцелевший иллюминатор.
Впрочем, все эти мысли пришли потом. Первое время после горячечной деятельности он спал. Конечно, он просыпался и что-то делал, но ему казалось, что он видит бесконечный сон. Будто он заболел и лежит, как в детстве, на широкой постели, а за окном долгая, зимняя деревенская ночь, в которой кружится душная звездная метель. Она сыплется прямо на грудь, и нет голоса, чтобы вскрикнуть.