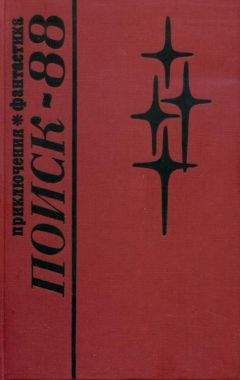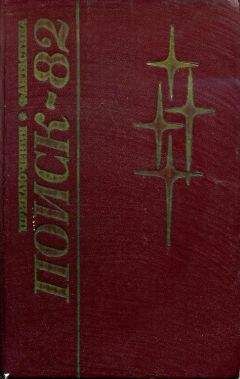Плещется на гафеле военно-морской флаг, сучит ветер белое полотнище, мнет синего, стиснутого красным крестом паука в углу. И оттого, что паук по синему раскрашен красным, кажется, что он насосался крови. И еще ждет. Чтобы совсем покраснеть. Застучали в голове молоточки, и ощутил Володька каждой клеточкой собственную кровь, вспомнил, какая она густая да горячая. И что же?.. Брызнет, ударит тугой алой струей и — все кончится? С о в с е м?
Он не смотрел на офицеров, из которых не менее десятка заседало в трибунале. Тошно было от их постных рож. А вот матросы... Стоят напротив, но видны только рослые правофланговые. Середину строя и не вышедших ростом замыкающих загораживало караульное отделение и головки швартовых шпилей.
Капрал, одевший наручники да к тому же искупавший у катера, легонько толкнул и прошел за спину, где сбросил цепочки со стояков ограждения — распахнул врата. Куда? Джордж, тот, что из Динки-джаза, видел на тех вратах надпись: «Вход в рай — только с британским паспортом!». Нет у Володьки британского паспорта, а рай... Да пропади он пропадом — не надо рая, дайте родину мою, дайте мою Красотулю!
А этот, капралишка, — чистоплюй... Все сделал, чтобы Володька сыграл в океан, не испачкав палубу. И наручники. Деловито снял — денег стоят. Глядишь — еще раз пригодятся.
Руки занемели. Потер их, размял пальцами кисти, все суставы-косточки и угрюмо окинул взглядом «фендриков»[4]. Этих в трибунал не допустили, этим достались слухи и готовый приговор. Теперь лейтенанты и суб-лейтенанты глядели на приготовления с нескрываемым любопытством. Старший офицер хмуро взирал на «уайт енсайн» — «белый флаг», как, непонятно отчего и почему, кличут свой военно-морской штандарт англичане; коммодор же. делал вид, что изнывает от скуки, — смотрел перед собой сонно и пусто.
Арлекин зубами скрипнул, удивился, как остро все видит и все примечает, жадно фиксирует всякую мелочь, — к чему теперь все это? Последний миг ловишь?
Стрелки — парни бравые, что надо. Хваты. Наверное, добровольцы. Притопнули башмаками, прижали карабины к ляжкам, подсумки выравняли и уставились на майора. Хваты, хваты... Не промажут, даже если очень захотят, потому как — профессионалы.
Капеллан пошушукался с капралом — покатился к осужденному, точно колобок. На беду крейсер качнуло: подыграло кормой. Попик взметнул полами сутаны, ткнулся в грудь моряку и, обдавая густым запахом табака и бренди, забубнил о бренности всего сущего и еще что-то об отпущении грехов. Когда упомянул преподобный о юдоли нашей земной, где человек погряз во зле и разврате, хитрости и подлости и будет за это гореть вечно в геенне огненной, вспомнил Арлекин или спохватился, что он — русский моряк, что негоже ему, потомку кузнеца-мастерового, смиренно выслушивать, будто он всего лишь полено в костре божьих промыслов. Набрал побольше воздуху в грудь и... не стесняясь ни святого отца, ни господ офицеров, выложил открытым непечатным текстом такие комментарии к божьему слову, что отец преподобный трижды осенил перстами покрасневшее личико свое и поспешно отработал задним ходом.
Случалось с Владимиром такое в минуты опасности, когда напрочь отбрасывался трезвый расчет. А-а, пропади, моя телега — все четыре колеса! Вот и сейчас — буквально ослеп от веселого, если можно эдак сказать в такую минуту, да, от веселого и жуткого бешенства: отшвырнул опостылевший китель, сорвал с плеч остатки грязной, прокоптившейся рубахи и остался в старенькой полосатой тельняшке — смотрите, как умирают славяне!
И больше уж не сдерживал себя.
Хотите отходную молитву? П-жалста! Согрешит напоследок — все равно помирает нехристем. И облаял окружающее и присутствующих, обращаясь все-таки по старшинству — к коммодору, так вычурно и многоэтажно, что старый боцман Шарыгин, учивший некогда салажонка Володьку матросскому уму-разуму, наверное, трижды перевернулся в гробу и одобрительно крякнул: «Так их, Адес-са-мама, синий океан! Отведи душу, моряк, не дай скиснуть крови, хлещи их, паря, солью в пресные уши!» Спину расправил и плечи развернул Владимир Алексеевич (не мог назвать себя в эту минуту ни Володькой, ни Арлекином!), уперся пятками в ватервейс, застыл, коренастый и полосатый, не пряча улыбки-усмешки на багровом лице.
Майор читал приговор.
Прости, Красотуля. И прощай. Горько... Хоть бы одно родное лицо, хоть бы просто л и ц о с каплей понимания и сочувствия. Правда, появилось на э т и х что-то новое, как обложил их добротным многоэтажьем. Запереглядывались флотские сэры, качнулись кой-где матросики. А кое-где и зашептались, море-океан!..
Взгляд, миновав офицеров, скользнул по матросским лицам и вдруг уперся в синюю бабочку на щеке. Роберт Скотт! К-как раньше не углядел тебя? Как же?!
Взгляды их сошлись — склеились. Ну-ну, давай хоть ты, браток, давай хоть ты, меченый, хоть ты давай, кость морская, ну — подмигни, ну хоть кивни напоследок! Неужели я так страшен, что не признаешь?
Стоял шотландец. Смотрел тяжело, пристально.
И вдруг...
Что толкнуло на поступок, который был неожиданным даже для него самого? Неожиданным, непроизвольным, импульсивным, как говорится. Кто объяснит, кто расскажет, что движет человеком, когда н е т выбора, когда лоб в лоб, один на один стоит он с собственной смертью и вдруг мелькнет в готовой обрушиться тьме слабенький лучик участия?
Не мог этого — потом, конечно, потом! — объяснить и Владимир Алексеевич. Увидел л и ц о — проняло и зацепило. Надежда? Э-э... Всего лишь булавочная головка, готовая — а вдруг? — вспыхнуть ярче звезды! Возможно, это не так, возможно, только померещилось.
Но... Шагнул от борта. Сделал всего лишь шаг, не ведая, что смерть уже начала отступать. Шагнул и запел, хрипло затянул их — ИХ! — тоскливую песню, их гимн, их реквием, их молитву, бог весть что, рожденное войной, кровью, вонью горящей плоти в пылающих недрах кораблей, рожденное Атлантикой, черным полярным небом, арктическими всполохами над одинокой шлюпкой, белой смертью у ледяных припаев, всей болью, переложенной на слова безвестным матросским сердцем:
...В Шотландии милой, близ лондонских доков,
У скал Корнуэлла, в ирландских холмах,
На медные пенни зажгите по свечке:
Вам — память и слезы, а морю — наш прах...
И качнулся строй-монолит: с в о я песня! Знакомые слова всколыхнули и прошлись волной по матросской шеренге за спинами дрогнувшего караула: с в о ю песню может знать и петь только с в о й! «Фендрики» оторопели, у членов трибунала вытянулись лица, даже коммодор наконец взглянул на человека, который, судя по всему, не покорился участи, отведенной ему судьбой и его, коммодора Маскема, решением. Встревожился и служака старший офицер, но по другой причине: назревает, кажется, в команде какое-то несогласие с приговором, какой-то протест. На британском корабле?! Невероятно! Немыслимо! Непредставимо!!! Что делать? Как поступить?! Не найдя ответа на лице своего командира, капитана «Абердина», стоявшего величаво-неподвижно, как бронзовый Нельсон на Трафальгарской колонне (кептен с первой минуты не одобрял затеянного судилища, но, высказавшись раз, больше не счел нужным вмешиваться в распоряжения начальника конвоя), старший офицер впился вопрошающим взором в лицо коммодора, но и на нем не прочел ответа.