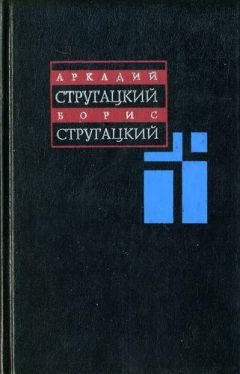Другой вопрос казался нам гораздо менее тривиальным, когда мы писали свою пьесу: а нужно ли ИМ совершать путч вообще – двигать танки, вводить войска, сгонять арестованных на стадионы по методике генерала Пиночета? Может быть, вполне достаточно только припугнуть нас хорошенько, и все мы тут же послушно – с отвращением к себе и к своей судьбе, бормоча проклятия в адрес поганой власти, но послушно и безотказно как всегда – встанем по стойке смирно?
В реальности оказалось намешано всего понемножку – и беззаветного бунта, и покорности, и равнодушия, и радостной готовности подчиниться, – но одно АБС угадали точно: отношение к происходившему молодежи. Молодежь с удивительным единодушием сказала перевороту либо «нет», либо, в крайнем случае, «плевать!». И это было лучшим доказательством тому, что Старый мир прекратил существование свое в прежнем, привычном качестве и обличье. Новое поколение устами Виктора Цоя объявило: «Перемен! Мы хотим перемен!» Ничего не зная о Новом мире, оно без колебаний отвергло Старый. Как это, впрочем, обычно и происходит с каждым новым поколением, только далеко не каждому новому поколению везет оказаться на взлете своем именно в эпохе перемен.
Мы закончили пьесу в начале апреля 1990 года, и уже в сентябрьском номере «Невы» она была опубликована. Своеобразный рекорд, однако. Напоследок.
Надо сказать, мы совсем не планировали ее для театра, и полной для нас неожиданностью оказалось, что пошла она неожиданно широко: Ленинград, Москва, кажется, Воронеж, Новосибирск, еще где-то, – был момент, когда она шла в доброй дюжине театров разом. В Киеве ее (с разрешения авторов) поставили под названием «Жиды города Киева», в Ленинграде (или уже в Петербурге?) сделали остроумную публицистическую телепередачу, в которой сцены из постановки перемежались вполне документальными разговорами на улицах Питера – наугад выбранным прохожим задавали вопрос, как бы они поступили, получивши, подобно героям пьесы, повестку соответствующего содержания...
Было довольно много хлопот с названием. Звонили из разных театров, произносили речи об опасности антисемитизма, просили разрешения переменить название, оставить только «Невеселые беседы при свечах» – мы отказывали, дружно и решительно. Название пьесы представлялось нам абсолютно точным. И дело здесь было не только в том, что название это перекидывало прочный мостик между страшным прошлым и нисколько не менее страшным виртуальным будущим. («Жиды города Киева!» – так начинались в оккупированном Киеве 1942 года обращения немецко-фашистского командования к местным евреям – приказы, собрав золото и драгоценности, идти на смерть.) Ведь все наши герои, независимо от их национальности, были в каком-то смысле «жидами» – внутри своего времени, внутри своего социума, внутри собственного народа – в том же смысле, в каком писала некогда Марина Цветаева:
...Жизнь – это место, где жить нельзя:
Еврейский квартал...
Так не достойнее ль во сто крат
Стать Вечным Жидом?
Ибо для каждого, кто не гад,
Еврейский погром –
Жизнь...
Эти слова, написанные много лет назад, и по сей день остаются в значительной мере актуальными, – как тогда, как всегда. И, мне кажется, так же и по тем же причинам все еще остается актуальной наша пьеса, хотя очередного путча, вроде бы, пока и не предвидится (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить).
В этом издании опубликованы далеко не все сценарии, написанные АБС за добрые тридцать лет. Некоторые из сохранившихся представляются мне (и представлялись в свое время обоим авторам) неудачными – например, сценарий по «Жуку в муравейнике», опубликованный в свое время в журнале «Уральский следопыт». Некоторые – безвозвратно утеряны: такие, скажем, как самый первый из наших киносценариев, писанный по роману «Страна багровых туч» еще в начале 60-х, или, скажем, сценарий «Бойцовый Кот возвращается в преисподнюю», который мы делали для Одесской киностудии, – он был зарублен Госкино по стандартному обвинению в «экспорте революции» (именно из него впоследствии произросла повесть «Парень из преисподней»).
Обоих вышеназванных сценариев, впрочем, ни чуточки не жалко. А вот самый первый сценарий по «Трудно быть богом» – жалко. У него своя, со специфическими хитросплетениями и неожиданными поворотами, история, его несколько раз начинали и бросали, были моменты, когда дело было, казалось, совсем уже на мази: еще немножечко, еще чуть-чуть, и фильм начнут снимать, – но каждый раз возникало какое-нибудь препятствие (иногда – вполне исторических масштабов, вроде вторжения в Чехословакию в 1968-м), и все надежды рушились, и все вновь откладывалось до морковкина заговенья. Сценарий добрых два года влачился по всем ленфильмовским инстанциям (от редсовета к худсовету), не пропуская ни единой. В обсуждениях его принимало участие множество людей, причем не только редакторы и кинокритики, «широко известные в узких кругах», но и литераторы знаменитые – Вера Федоровна Панова (выступавшая «против» с резкостью и жесткостью, меня, помнится, поразившими) и Александр Моисеевич Володин, заступавшийся за сценарий решительно, блестяще и неизменно. Но в результате этих редакционных перипетий все без исключения экземпляры (очень, на мой взгляд, недурного) сценария, который писался вместе с Алексеем Германом и специально для Алексея Германа, пропали безвозвратно.
Безвозвратно утрачены практически все варианты сценария фильма «Сталкер». Мы начали сотрудничать с Тарковским в середине 1975 года и сразу же определили для себя круг обязанностей – свое, так сказать, место в этой многомесячной работе. «Нам посчастливилось работать с гением, – сказали мы тогда друг другу. – Это значит, что нам следует приложить все свои силы и способности к тому, чтобы создать сценарий, который бы по возможности исчерпывающе нашего гения бы удовлетворил».
Я уже рассказывал и писал раньше, что работать над сценарием «Сталкера» было невероятно трудно. Главная трудность заключалась в том, что Тарковский, будучи кинорежиссером, да еще и гениальным кинорежиссером вдобавок, видел реальный мир иначе, чем мы, строил свой воображаемый мир будущего фильма иначе, чем мы, и передать нам это свое, сугубо индивидуальное видение он, как правило, не мог, – такие вещи не поддаются вербальной обработке, не придуманы еще слова для этого, да и невозможно, видимо, такие слова придумать, а может быть, придумывать их и не нужно. В конце концов, слова – это литература, это высоко символизированная действительность, совсем особая система ассоциаций, воздействие на совсем иные органы чувств, наконец, в то время как кино – это живопись, это музыка, это совершенно реальный, я бы даже сказал – беспощадно реальный мир, элементарной единицей которого является не слово, а звучащий образ...