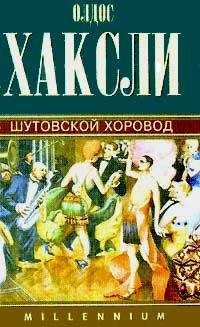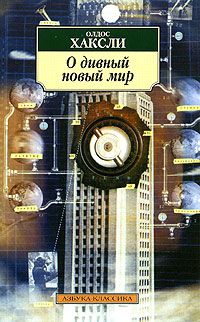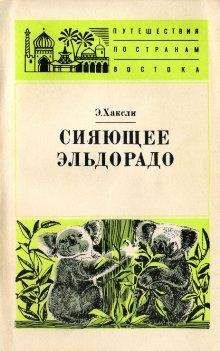— Я подумала, что было бы забавно, — продолжала Майра, — заехать в этот ресторанчик на Гэмптон-Корт, где можно поужинать на острове и потанцевать.
— Почему острова, — в восхитительно-причудливых скобках заметил Меркаптан, — так располагают к наслаждению? Цнтера, Монки-Айленд, Капри. Je me demande.[47]
— Начинается! Еще одна очаровательная статейка! — Кол-мэн угрожающе поднял трость; мистер Меркаптан проворно отскочил в сторону.
— Тогда мы взяли машину, — говорила миссис Вивиш, — и пустились в путь. Но какую машину, Господи Боже мой! С одной только скоростью, и к тому же минимальной. Автомобиль прошлого столетия, музейный экспонат, коллекционный экземпляр! До места назначения ехали несколько часов. А когда наконец добрались, какую подали еду, какими напитками угощали! — Миссис Вивиш стонала в неподдельном ужасе на своем вечном смертном одре. У всех кушаний был такой вкус, точно их добрую неделю вымачивали в воде, прежде чем подавать; это было похоже на водоросли, да еще с восхитительным тифозным ароматом воды из Темзы. Темза была даже в шампанском. Они не в силах были проглотить ничего, кроме корки хлеба. Изнемогая от голода и жажды, они отплыли на своем средневековом такси обратно, — и вот наконец здесь, на первом форпосте цивилизации, едят для сохранения своей драгоценной жизни. — О, какой ужасный вечер, — закончила миссис Вивиш. — Единственное, что меня развлекало, — это вид Бруина в скверном настроении. Вы представить себе не можете, Бруин, до чего курьезным вы иногда бываете.
Бруин пропустил это замечание мимо ушей. С трудом подавляя отвращение, он доедал крутое яйцо. Капризы Майры становятся с каждым разом все невыносимей. Одного этого ресторана на Гэмптон-Корт было более чем достаточно; но когда дело дошло до того, чтобы есть на улице, среди грязных рабочих, — нет, знаете, это уж чересчур.
Миссис Вивиш посмотрела по сторонам.
— Я так никогда и не узнаю, кто эта загадочная личность? — Она указала на Шируотера, который стоял в стороне, прислонившись к ограде парка и задумчиво глядя себе под ноги.
— Физиолог, — объяснил Колмэн, — и у него есть ключ. Ключ, ключ! — Он забарабанил тростью по асфальту.
Гамбрил представил Шируотера более общепринятым способом.
— Вы, кажется, не слишком интересуетесь нами, мистер Шируотер? — голосом умирающей произнесла Майра. Ширу-отер поднял глаза: миссис Вивиш напряженно смотрела на него светлым пристальным взглядом, улыбаясь при этом той странной улыбкой, от которой уголки губ опускались книзу; эта улыбка придавала ее лицу выражение страдания, замаскированного смехом. — Вы, кажется, не интересуетесь нами? — повторила она.
Шируотер покачал своей тяжелой головой.
— Нет, — сказал он, — не интересуюсь.
— Отчего?
— А чего ради мне интересоваться вами? Времени на все ведь не хватит. Интересоваться можно лишь тем, что стоит того.
— А мы не стоим того?
— Для меня лично нет, — чистосердечно ответил Шируотер. — Великая Китайская стена, политические события в Италии, биология плоских глистов — все эти предметы сами по себе крайне интересны. Но я ими не интересуюсь; не позволяю себе интересоваться ими. У меня нет лишнего времени.
— А чем же тогда вы позволяете себе интересоваться?
— Не пора ли нам? — нетерпеливо сказал Бруин; ему удалось проглотить последний кусок крутого яйца. Миссис Вивиш не ответила ему, даже не удостоила его взглядом.
Шируотер на мгновение замялся и приготовился было говорить, но Колмэн ответил за него.
— Будьте почтительны, — сказал он Майре Вивиш. — Это великий человек. Он не читает газет, даже тех, в которых так замечательно пишет наш Меркаптан. Он не знает, что такое бобер. И он живет ради одних только почек.
Миссис Вивиш страдальчески улыбнулась.
— Почки? Что за memento mori![48] Есть ведь и другие части организма. — Она откинула манто, обнажив руку, голое плечо и треугольник грудной мышцы. Она была одета в белое платье, оставлявшее обнаженными спину и плечи; на груди его поддерживал золотой шнурок, охватывающий шею. — Хотя бы это, — сказала она и, вытянув свою стройную руку, несколько раз повернула ее то вверх ладонью, то вниз, точно желая продемонстрировать работу сочленений и игру мускулов.
— Memento vivere, — последовал уместный комментарий мистера Меркаптана. — «Vivamus, mea Lesbia, atque amemus».[49]
Миссис Вивиш опустила руку и снова накинула манто. Она взглянула на Шируотера, прилежно и внимательно следившего за всеми ее движениями; он кивнул с вопросительным выражением, словно спрашивая: а дальше что?
— Мы все знаем, что у вас красивые руки, — сердито сказал Бруин. — Вовсе незачем выставлять их напоказ, на улице, в двенадцать часов ночи. Идем отсюда. — Он положил ей руку на плечо, точно желая ее увести. — Лучше бы нам уйти. Господь его ведает, что там творится позади нас. — Кивком головы он указал на клиентов вокруг стойки кафе. — Чернь волнуется.
Миссис Вивиш оглянулась. Шоферы и прочие посетители ночного кафе окружили любопытным и сочувствующим кольцом какую-то женщину, похожую на огромный узел, обмотанный черной бумажной тканью и завернутый в непромокаемый плащ; она сидела на высоком табурете хозяина кафе, безжизненно прислонившись к стенке палатки. Мужчина, стоявший рядом с ней, пил чай из толстой белой чашки. Все говорили разом.
— Разве этим несчастным нельзя говорить? — спросила миссис Вивиш, снова оборачиваясь к Бруину. — Ни разу в жизни не видела человека, который столько думал бы о низших классах.
— Я их ненавижу, — сказал Бруин. — Все бедные, больные и старики внушают мне отвращение. Не переношу их; меня буквально тошнит от них.
— Quelle ame bien-пёе![50] — пискнул мистер Меркаптан. — И как честно и прямо выражаете вы то, что мы все чувствуем, но не осмеливаемся сказать!
Липиат разразился негодующим хохотом.
— Когда я был маленьким, — продолжал Бруин, — помню, дедушка рассказывал мне о своем детстве. Он рассказывал, что, когда ему было пять или шесть лет, как раз перед биллем о реформах тридцать второго года, существовала такая песня, которую пели все благомыслящие люди; припев там был примерно такой: «К черту народ, к дьяволу народ, к сатане рабочий класс». Жаль, я не знаю остальных слов и мотива. Должно быть, хорошая была песня.
Песня привела Колмэна в восторг. Он перекинул трость через плечо и принялся маршировать вокруг ближайшего фонарного столба, распевая слова на мотив бравурного марша. «К черту народ, к дьяволу народ…» Он отбивал такт, тяжело стуча каблуками по тротуару.