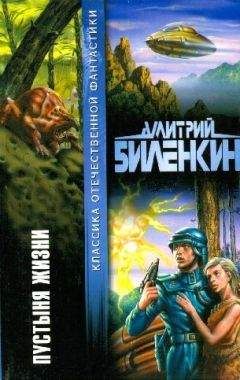Смех оборвался, когда я приблизился и замер на краю поляны.
Тут засветка. Память отказывается воспроизвести то мгновение, его я могу реконструировать лишь по схожим, более поздним впечатлениям. Так я снова вижу солнечный прогал поляны. Посередине замерла девочка в белом платьице, ее беззвучно смеющееся лицо обращено ко мне вполоборота, белозубый рот приоткрыт. Поодаль — скамья, там женщина с окаменелым лицом. Вдруг смех! Девочка срывается с плиты, на которой стояла, раскинув руки, бежит к женщине…
Бежит, не оставляя на песке следов.
Это мать позвала своего ребенка…
Память недаром отбрасывает эту сцену. Наука сделала возможным некогда, казалось бы, невероятное. Чего проще установить на могиле аппарат воспроизведения давно снятого мгновения жизни, заставить изображение ребенка бежать и смеяться, как он бежал и смеялся в тот счастливый день! Технически все несложно. Но как непостижимо, как странно, надрывно такое желание матери… Пусть всего одной из миллиона. А может быть, не так уж странно? Ужасно, самоубийственно, но не странно? Перед этой загадкой отступили психологи. Не помог и порыв общественного осуждения: кое‑кто все равно продолжал ставить и такие памятники. Что ж… Право матери свято. Даже такое.
К чему это вспомнилось?
Мы распоряжаемся памятью, но и она распоряжается нами Особенно ночью, когда сна нет, когда ты один, когда в мире нехорошо, когда смерть настигает твоих близких, а ты никому ничем не можешь помочь и, более того, обречен на бездействие.
Зря я отсыпался целые сутки, теперь сон не идет, а память похожа на минное поле. Невозможно не думать о Феликсе, но это невольно тянет за собой память о Снежке, о многих и многих, вплоть до той неизвестной мне девочки, чей призрак бежал тогда по кладбищу. От окна дует, за ним холодный и плотный мрак. И тишина.
В руке палка, шаг, шаг, еще шаг… Нога успела срастись и уже повинуется, ее надо разминать. Это болезненно, и это хорошо, потому что перебивает непрошеные мысли. Мы с детства росли в убеждении, что товарищество — одна из высших ценностей жизни. Детский, затем юношеский опыт подтверждал это на каждом шагу, только он умалчивал о другом: чем шире круг дружбы, тем вероятней потери, а каждая из них — горе.
Юности это невдомек, сколько бы о том ни писали, ни говорили старшие. Слова и книги подобны каплям и струям дождя, без них ничто не взойдет, но и они бесполезны, если в почву не заброшены семена, а их сеятель — это жизнь. Пока я сам не потерял Снежку…
Нет, об этом сейчас нельзя! Нельзя расслабляться, плакать нельзя, утром ты должен быть свеж и бодр, потому что утром снова борьба, нужны все до последнего силы, переживания их только убавят.
Убавят ли? Не знаю, не знаю! Память о Снежке, память о Феликсе мучительны, как раскаленное железо, это я знаю и стараюсь думать о другом. О том, успеют ли к утру починить мою “черепаху”, залечится ли нога, кого теперь надо избрать вместо Феликса…
Опять!
Почему гомеровские герои могли рыдать и рыдали, а мы себе это запрещаем? Другие заботы? Или другая ответственность? Ах, да не все ли равно…
Так я ковылял от окна, из которого дуло холодом ночи, к изголовью кровати, к кругу света на нем, и мысли подчинялись этому ходу, но так не могло длиться до бесконечности, ноге надо было дать отдых. А стоит лечь и закрыть глаза…
Присев, я уже в который раз включаю информ.
Что изменилось за последний час? От натиска моря удалось отстоять Бангкок (это я уже слышал, все равно молодцы). На Мадагаскаре внезапно выпал снег (бедняги лемуры, сейчас, увы, не до вас…). В малоазиатском анклаве попавшие в наше время крестоносцы помолились богу (еще бы, ночь вдруг сменилась днем!) и продолжают резаться с мусульманами (спятили они, что ли?). На юге Африки динозавр смог преодолеть силовой барьер, но был вовремя оттеснен в свой мезозой…
И по–прежнему никаких известий о новых хроноклазмах. Уже сутки как тихо. Самое приятное, что можно услышать! Может быть, прав Алексей? Ведь если дело в резонансе, то колебания постепенно должны затухать. А если те сутки, что я провалялся, прошли спокойно, то это, возможно, свидетельствует…
Увы, это пока ни о чем не свидетельствует, такие дни бывали и раньше.
Я дослушал передачу и выключил информ. Больше дел нет. Выскользнуть наружу, долететь до ангара, помочь ребятам с ремонтом? Прогонят. Мое дело выполнять врачебные предписания. Выздоравливать. Покой, отдых и сон.
В окно застучал дождь. Смолк. Я встал. Будь что будет, мне нужно дело, и оно у меня есть. В конце концов, это тоже мой долг, надо только решиться. А, ничего! Ходить, в сущности, не придется, быстренько обернусь туда и сюда, тем более что другой возможности у меня, скорей всего, не будет. Как я сразу об этом не подумал!
Я быстро собрал сумку, натянул на себя походную амуницию, потуже затянул капюшон, раскрыл окно.
Ветер гнул и раскачивал едва различимые в темноте ветви деревьев, гулко ходил в их вершинах, плескался дождем. Где‑то рядом мокрые листья шуршали о стену замка. Я дал глазам привыкнуть, учел поправку на ветер и, чтобы не задеть близкое дерево, взмыл вверх. Резкий порыв ветра попытался прижать меня к стене, но это ему не удалось. Огоньки окон отклонились в сторону и ушли вниз, под ногами мелькнули зубцы башен. Завершив этот маневр, я тут же нырнул и полого прошел над смутной массой деревьев парка. Высь меня не манила: чтобы не привлекать внимания, я заранее выключил маяк–ответчик, и теперь следовало избегать трасс, которыми мог воспользоваться любой реалет..
Бреющий полет в темноте — не самое приятное занятие, зато никаких посторонних мыслей тут быть не может, а этого я и хотел. Лицо нахлестывал дождь, тело ласточкой рассекало воздух, всякая минута требовала предельного внимания, и лучшего сейчас быть не могло. За рельефом земли следил сблокированный с расчетчиком локатор, я заведомо не мог врезаться ни в холм, ни в здание, но кроны деревьев давали размытый сигнал, тут приходилось полагаться на инфраоптику и быть настороже. Особенно из‑за шквалистого ветра, порывам которого надо было противостоять. Конечно, я уже мог включить ответчик и уйти в вышину, благо поодаль от замка никто ни о чем не стал бы расспрашивать, но толика сумасшедшинки и риска иногда полезней благоразумия.
Почему‑то я ничуть не боялся сбиться с пути, хотя на бреющем полете, ночью, это вполне возможно. Мне нравилось лететь именно так, спорить с непогодой, а то и судьбой. Не знаю, почему я был так уверен в себе. Можно назвать это интуицией или озарением, только каждый рано или поздно чувствует в себе некую подсказку, которая, если ей довериться, не хуже компаса ведет к цели. Причем, самое странное, не обязательно к той, к которой человек устремился бы, знай он все наперед.