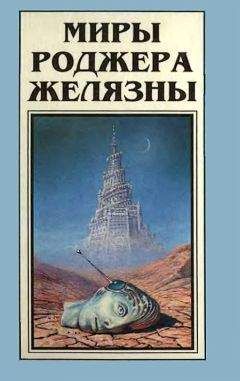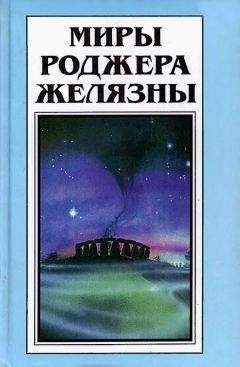Ознакомительная версия.
— Вот что, — сказал Пит вслух. — Я вам отдам все таблетки в том случае, если вы объясните мне откровенно, почему вы отвергли Макмастерса, когда он восхотел найти прибежище в христианстве? Согласны? По рукам?
— Он обязан проявить мужество. Он обязан подняться на высоту поставленной перед ним задачи. Это его святой долг. Пусть это долг перед ложной и вздорной, шутовской религией. Тем не менее долг следует выполнять.
— Да что вы мне очки-то втираете! — воскликнул Пит.
Это объяснение, по его мнению, звучало совершенно фальшиво. Сейчас, когда они были наедине и после события прошло некоторое время, это объяснение звучало вдвойне фальшиво.
Получалось, что на прямой и настоятельный вопрос о причине Абернати ответил, что причины, в сущности, не было. В глубине души Пит не сомневался, что святой отец попросту умалчивает об истинной причине.
— Соблаговоли отдать наркотики, — отчеканил Абернати. — Я сказал тебе откровенно, почему я отверг соблазн обратить в христианство одного из самых лучших фресковых живописцев в районе Скалистых Гор. Выполни и ты свое обещание…
— Просите что угодно, — тихо промолвил Пит.
— Что? — переспросил Абернати, растерянно мигая и приставляя ладонь лодочкой к уху. — Ах, ты имеешь в виду: берите у меня что угодно, кроме химических препаратов.
— Готов отказаться от Лурин и прибавить чего пожелаете, — произнес Пит чуть слышно, голосом человека при последнем издыхании.
Он даже не знал, расслышал ли священник все слова этой фразы. Но интонация была настолько выразительной, что не стоило труда догадаться о содержании Питовой мольбы. Разумом Пит понимал, что так вот канючить — стыдно. Но ничего поделать с собой не мог. Таким жалким, таким униженным и потерянным он, похоже, никогда еще не был — даже в разгар чудовищной войны.
— Гм, гм, — произнес Абернати. — Значит, и Лурин, и все, что угодно… Вот так предложение! Звучит грандиозно! Выходит, ты до такой степени привык к какому-то одному наркотику или ко всем сразу, что теперь готов ради них на все. Я прав?
— Нет, не ради наркотиков, — ответил Пит. — Но ради того, что мне эти наркотики открывают.
— Дай-ка подумать…
После продолжительного молчания Абернати сказал:
— Что-то у меня сегодня вечером плохо варит голова… Пора на боковую. Утро вечера мудреней. Возможно, завтра я решу, как нам с тобой поступить.
«Голова у тебя сегодня варит отлично, — подумал Пит. — Обвел меня вокруг пальца и плюс к тому все серебро у меня выиграл — чтоб его нелегкая взяла!»
— Кстати, — внезапно спросил священник, — как эта рыжеволоска в постели? Грудки у нее такие же твердые на ощупь, какими кажутся?
— Она подобна морскому приливу, — мрачновато изрек Пит. — Или ветру, летящему над равнинами. Ее груди как холмы цыплячьего жира. Ее чресла…[16]
— Так или иначе, — широко ухмыляясь, сказал Абернати, — ты получил удовольствие от того, что познал ее. В библейском смысле слова.
— Вы действительно хотите знать, что она собой представляет? — спросил Пит. — Средненькая. У меня, в общем-то, было немало женщин. Одни из них были лучше ее в постели, другие хуже. Вот так-то.
Абернати продолжал ухмыляться.
— Что тут смешного? — задиристо осведомился Пит.
— Возможно, именно так, со смешком, голодный расспрашивает о том, какие закуски стояли на шведском столе, — сказал Абернати.
Пит вспыхнул, сознавая, что этого никак не скрыть, ибо обычно он заливается краской до самой лысоватой макушки.
Он раздраженно передернул плечами и, отвернувшись, спросил:
— А вам-то что? Зачем спрашиваете?
— Просто любопытно. — Священник почесал подбородок и убрал с лица улыбку. — Я человек любопытный; знания о плотских радостях, даже из вторых рук, все равно знания.
— Вероятно, многолетнее выслушивание чужих исповедей способствует развитию болезненного любопытства, — обронил Пит, по-прежнему не глядя на Абернати.
— Даже если так, это нисколько не оскверняет обряд таинства исповеди.
— Я знаю, что говорили вальденсы[17]. Я хотел сказать…
— Ты хотел сказать, что я вроде тех, кто в дырочку подсматривает за голыми бабами. — Абернати удрученно вздохнул, поднялся со стула, одернул сутану. — Ладно, я пошел домой.
Пит проводил священника до двери, а заодно и выпустил на двор Тома-Шустрика, чтоб тот сделал свои обычные вечерние дела.
Повсюду пыль была прибита росой. Но копыта голштинки поднимали дорожную пыль, которая летела в лицо Тибору. Он отворачивал голову в сторону и обозревал утренний пейзаж.
«Какие цвета! Сколько красок!.. Господи Иисусе! Какие краски!» — думал Тибор.
Утром мир красок живет особой жизнью: эта влажная зелень листьев, эта пастельная маслянистость серо-голубых перышек сойки, этот насыщенно-сочный цвет конских яблок — все и вся смотрится иначе! Чудесное преображение длится часов до одиннадцати. Потом буйство красок вроде бы остается, но магия как бы ускользает из мира — влажная магия утра.
Девять тридцать. Западный край неба подернут дымкой тумана. Она напомнила Тибору тени на репродукциях картин Рембрандта. Проще простого подделаться под колорит и стиль этого художника. Толкуют о каких-то особенных глазах на его портретах… И что публика в них находит? Что хочет, то и находит. Потому что Рембрандт дает только тени, тени и тени. Ничего больше. Он не утренний художник, а потому ничего не стоит писать точнехонько в его манере. А вот картины этих истинно утренних художников, импрессионистов, которые образовали единое направление, быть может, только потому, что жили в одном районе Парижа и сидели рядом за столиками в кафе «Gaibois», — их картины черта с два подделаешь. Они умели увидеть необычайность утреннего мира — и норовили ухватить его, пробуя то одни приемы, то другие, ходя кругами вокруг совершенства.
Тибор упоенно наблюдал за птицами, впитывал прелесть их полета. Ах, утро даже слишком хорошо! Так бы и нарисовал всю эту благодать акварелью! Или нет, лучше не пожалеть сил и нарисовать маслом — слой за слоем, слой за слоем, как это ни трудно.
Рисовать, рисовать — работой отстраняя от себя…
Что отстраняя?
Корова тихонько всхрапнула, и Тибор отозвался ласковым, столь же нечленораздельным звуком.
Господи! Знал бы кто, как он ненавидел работать при искусственном освещении! Да, церковного полумрака, освещенного свечами или факелами, достаточно для проработки деталей, для росписи темных углов или фризов — словом, для работы над второстепенным. Но произведение в целом — das Dinge selber — должно быть дитя света, творение утра.
Ознакомительная версия.