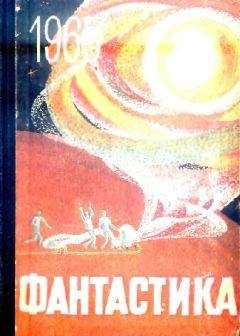Светлый Круг - собственно, это очень давний термин, но тогда он не имел такого глубокого и страшного смысла, как сейчас. Я, кажется, впервые применил его, когда в начале нашей совместной жизни рассказывал Констанс о своем прошлом - и о своем страхе перед войной и одиночеством. Я тогда сказал, помнится, что война всегда приносила мне в конечном счете одиночество. “Оба раза было так, - сказал я. - Война разрушала светлый круг любви и счастья, который защищал меня от ударов. И для себя я боюсь войны прежде всего поэтому”. Констанс тогда нашла, что “Светлый Круг” - это звучит очень хорошо, и как-то у нас с ней это определение удержалось в обиходе. А я даже не знаю толком, откуда оно взялось. Возможно, из стихов Вердена, где говорится о световом круге под лампой - символе семейного счастья и уюта.
И кто мог тогда знать, какой жуткой реальностью обернется этот мирный символ!
Нет, недаром я после войны чурался телепатии, не хотел работать в этой области! Я, правда, следил за тем, что публиковалось во Франции по этому вопросу, читал “Revue Metapsychiqtie”, работы Херумьяна, Варколлье, Дюфура, коечто из американских и русских исследований, - но в клинику Робера боялся даже заглядывать. Один раз он меня все-таки затащил к себе, попросил загипнотизировать и вылечить больную, страдающую истерическим параличом, - он никак не мог наладить с ней контакта. Я согласился очень неохотно; к тому же я вовсе не был уверен, что мне удастся проделать такой опыт в обычных, не лагерных условиях. Однако опыт удался превосходно, и я сразу понял, почему она так упорно не поддавалась воздействию Робера: эта некрасивая старая дева была в него влюблена. Я увидел, как она представляет себе его поцелуи и объятия, мне стало смешно и противно, я еле смог закончить внушение и больше ни разу не появлялся в клинике… до этого утра, последнего утра перед войной…
Все-таки почему мне кажется, что я был у Робера? Ведь я же не ездил в Париж…
Поищем какой-нибудь участок. Надо бы отдохнуть, так нельзя, все может плохо кончиться…
Что это? Как причудливо перескакивают мои мысли!
И опять - какое яркое воспоминание…
Узкая, крутая уличка Лозена в Бельвилле, серый, пасмурный день, холодно - мне холодно, я в изношенной куртке, слишком короткой, синие руки нелепо торчат из рукавов.
Я стучу зубами, но не от холода, я его почти не замечаю, а от волнения, от горя и недетской тоски. Я стою на пороге бистро “Под золотым орлом”, а вокруг, напирая на меня, толпятся какие-то люди, я их совсем не знаю, да и почти не вижу, мне не до них. Я вижу одного отца, и то сквозь туман слез, его лицо расплывается и дробится, я отчаянно кричу, обращаясь к этому далекому, смутно видимому лицу: “Папа, ну я тебя прошу, идем домой! Я тебя очень прошу! Я без тебя не могу вернуться!” Кто-то сочувственно и насмешливо басит: “Вот разоряется малец, даже сопли пустил!” Я машинально вытираю нос рукавом куртки и снова кричу: “Папа, ну, папа!” Мое плечо упирается в чей-то мягкий дряблый живот; вдруг этот живот начинает бурно колыхаться, и над моей головой раздается визгливый крик: “Негодяй, иди домой, что ты ребенка мучаешь!” Я запрокидываю голову и вижу отвисший прыгающий подбородок, широко разинутый щербатый рот, обмазанный по краям ярко-красной помадой, соломенно-желтые пряди волос, торчащие из-под залихватской сиреневой шляпки, и мне становится страшно и противно. “Папа, - говорю я совсем тихо, и он, конечно, не слышит меня в этом шуме и гаме, - папа… я… тогда я лучше умру…” И мне вправду хочется умереть - так все тяжело, невыносимо тяжело, и я даже не успел сказать, что мама заболела, очень заболела, и я с ней один, и не знаю, что делать, и теперь этого уже не скажешь, все шумят и кричат, а ведь я совсем не хотел устраивать скандала, я только хотел, чтобы отец пошел со мной и помог маме, но когда я увидел его лицо, то потерял голову от страха и горя и начал кричать. Еще с порога я увидел отца рядом с Женевьевой за стойкой и вдруг понял: он совсем чужой. Он не сердился ничуть, он приветливо улыбнулся мне, но я понял, что ему совсем не до меня, а так никогда еще не было, и до этой минуты я никак не мог понять, что отец бросил нас с мамой, что он совсем ушел от нас, а теперь я все понял и ничего не мог с собой поделать, так мне стало больно…
Эту сцену я не любил вспоминать, но всегда помнил - конечно, в общих чертах, довольно смутно, мне ведь тогда и семи не было. Я, например, почти сразу потерял из виду Женевьеву и вообще толком не разглядел ее: высокая, худая, волосы рыжие, а лицо… Мне было не до ее лица, я на отца глядел: какой он ласковый, молодой, веселый - и совсем чужой мне. А теперь я вижу, что Женевьева все время так и стояла за стойкой, не шевелясь, и лицо у нее было хорошее и грустное, и она смотрела то на отца, то на меня… Как странно перемешиваются у меня чувства: тогдашняя детская обида, боль, гнев - и теперешняя спокойная печаль…
Когда я сказал, что умру, и убежал, отец догнал меня внизу улицы Лозена, сунул мне в карман денег, дал шоколадку.
Я так плакал, что ничего не соображал. Я и не заметил, как он дал мне деньги, только дома их нашел, и шоколадку тоже, И что мама заболела, так и не смог сказать, слезы не давали.
Насколько помню, я очень редко плакал в детстве, но в этот день и еще три года спустя, когда умерла мать, слезы у меня сами лились, и я не мог их удержать.
Я не слышал, что говорил отец. Мама спрашивала, я сказал: “Ничего не говорил!” А сейчас я вижу, что он проводил меня до площади, которая теперь названа именем полковника Фабьена, купил билет в метро - оттуда шла линия к площади Терн, мы с мамой жили на улице Понселе. И он все время говорил, очень тихо и печально: - Малыш, не надо так плакать, право, не надо. Вот вырастешь - поймешь, почему так получилось. А мне сейчас домой идти, ну, просто ни к чему, уж ты поверь. Мы с твоей матерью обо всем уже поговорили, что ж заново-то волынку начинать. Она не понимает, я ж тебе говорю, ей хоть неделю подряд толкуй - не понимает, и все тут. И про Женевьеву тоже неправильно совсем говорит - будто я на ее кабачок польстился. Ты этому не верь, сынок, слышишь? Женевьева - баба душевная и горя хлебнула вдоволь. Мужа у нее на фронте убили в пятнадцатом году. Женевьева, знаешь, две недели не отходила от него, когда он умирал в лазарете, - это ведь подумать только, чего ей стоило пробиться туда, почти к самой передовой… А потом, когда он умер, Женевьева там осталась до самого конца войны, сиделкой работала… Она все понимает, вот в чем дело… Я уж лучше с ней буду, сынок. А тебя я никогда не оставлю, мы помогать тебе будем… Женевьева, она ведь добрая, очень добрая, право…
Что он видит? Почему так волнуется?… Нет, я что-то ничего не могу уловить… Попробуем сделать перерыв…