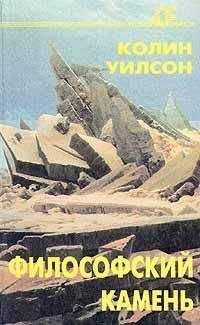Именно этот ход мысли и исполнил меня решимости изложить историю моего открытия точно в таком порядке, в каком она происходила. Тем самым я нарушаю обет хранить все в тайне, однако прослежу, чтобы повествование не попало к тем, кому оно может оказаться во вред, — иными словами, к большинству рода человеческого. Существовать же оно должно, пусть даже ему никогда не суждено выйти за пределы банковского сейфа. Графитовый набросок памяти с каждым годом становится все тоньше и тоньше.
Родился я в 1942 году в ноттингемширском поселке Хакналл Торкард. Отец у меня работал инженером-наладчиком на шахте «Биркин Бразерс». Тем, кто читал Д. Лоуренса[5], название это знакомо; Лоуренс фактически родился в свое время по соседству, в Иствуде. В Хакналле похоронен в фамильном склепе Байрон, и в те времена к Ньюстедскому[6] аббатству — его дому — дорога все еще пролегала через типичный шахтерский поселок, сплошь невзрачные одноэтажные домишки. Декорация, на первый взгляд, романтичная; хотя какая может быть романтика среди грязи и скуки. Так что память о первых десяти годах жизни ассоциируется у меня с грязью и скукой. На память приходит шум дождя, запах рыбы и чипсов осенними вечерами и субботняя толчея у местной киношки. Я побывал в тех местах неделю-другую назад; все там до неузнаваемости изменилось. Теперь это пригород Ноттингема, с аэропортом, метро, вертолетными станциями на крышах высотных зданий. Тем не менее, не могу сказать, что перемена меня огорчила; стоит лишь прочесть несколько страниц «Радуги»[7], чтобы вспомнить, как ненавидел я эту дыру.
Все свое детство я разрывался между страстью к математике и к музыке. В математике я преуспевал всегда. Первую свою логарифмическую линейку я получил в подарок от отца на Рождество, еще когда мне было шесть лет. И, как большинство математиков, я был, можно сказать болезненно восприимчив к музыке. Помнится, как-то вечером, идя с охапкой библиотечных книг, я приостановился возле церкви, заслышав звучание хора. Там, очевидно, шла репетиция (скорее всего, какая-нибудь ахинея из Уэсли или Стэйнера[8]), поскольку пропевался все один и тот же пассаж из полдесятка нот. Эффект был поистине магический; в студеном ночном воздухе голоса звучали отрешено и загадочно, словно скорбя о людском одиночестве. Внезапно я поймал себя на том, что плачу, и не успел я прекратить, как чувство наводнило меня и хлынуло, точно через прорванную плотину. Поспешив в церковный двор, я бросился на траву, где можно было как-то заглушить рыдания, и зашелся в безудержном, судорожном чувстве, да так, будто меня трясли за плечи. Удивительное это было ощущение. Идя потом домой (на душе — покой и странная легкость), я никак не мог взять в толк, что же такое со мной произошло.
Из-за моей любви к математике и способности проворно вычислять отец решил, что я должен стать инженером. Затея показалась мне разумной, хотя сама работа с техникой представлялась чем-то скучным. То же самое я почувствовал, когда отец взял меня с собой на шахту и показал машины, которые обслуживал. Мне вдруг показалось ужасно тщетным расходовать вот так жизнь в присмотре за массой мертвого металла, отслеживая, чтобы он функционировал более-менее на уровне. Для чего это все? Хотя возразить отцу что-либо внятное я не мог. Свободное время проходило у меня в основном за слушанием записей Доулэнда и Кэмпиона[9]; учился я и выдавливать мелодии Мессы на соседском электрооргане. Разумеется, музыка и близко не равнялась технике; стать посредственным исполнителем было бы моим потолком.
Я отчетливо помню то время, когда меня неожиданно поразила мысль о смерти. Я взял в библиотеке книгу о музыке прошлого. Меня почему-то неизменно околдовывала своей странной притягательностью холодная ладовая музыка Средневековья. В главе по древнегреческой музыке я открыл для себя «Застольную песнь» Сейкила, где в тексте звучит следующее:
Жизни солнце пускай светит тебе с улыбкой,
От боли и скорби вдали.
Жизнь так, увы, коротка.
Смерть — вездесущий дракон — ждет утопить тебя
В море земли.
Насчет «дракона» — гигантского мифического спрута — я слышал; знал о нем, очевидно, и Гомер (спрутом, скорее всего, считается Сцилла). Строки эти вызвали в душе холодок. Все равно, я отправился к нам на чердак и попробовал наиграть «Застольную песнь» на стареньком пианино, избрав для этого фригийский лад[10]; и так продолжал до тех пор, пока не очертилась форма мелодии. И снова в душу вселился холод; играя, я сбивчиво произносил слова вслух, чувствуя ту же немыслимую печаль, безбрежность пространств — то, что открылось мне там, на церковном дворе. И тут в уме прозвучало: «Что ты делаешь, глупец? Ведь это не литературная метафора, это истина. Из всех живущих в мире сегодня нет ни единого, кто останется в живых через сотню лет...» И мне разом, внезапно открылась реальность, правда о моей собственной смерти. От ужаса у меня буквально перехватило дыхание. Руки плетьми обвисли на клавиатуру, даже на стуле сидеть без опоры стало немыслимо трудно. И тут впервые за все время я понял, почему мысль о технике казалась мне тщетной. Потому что это — потеря времени. Время. Оно не стыкуется с реальностью. Все равно что открывать и закрывать рот, храня при этом молчание. Несообразность. Стрелка на моих часах тикает, словно часовая мина, возглашая суровый ультиматум жизни. А что делаю я? Учусь присматривать за машинами на шахте «Биркин»? Я знал, что инженером мне не быть никогда. Но если не это, то что? Что будет сообразным?
Странность была в том, что мой ужас нельзя было назвать беспросветным. Где-то глубоко внутри мерцала искорка счастья. Видеть пустоту вещей — в этом есть нечто возвышенное. Может, потому, что, осознав тщетность, смутно догадываешься, что где-то существует и ее противоположность. Я понятия не имел, в чем она, эта «противоположность». Лишь догадывался, что «Настольная песнь» Сейкила в чем-то превосходит математику, хотя бы тем, что составляет задачу, которую нельзя сформулировать математически. В итоге сложилось так, что мой интерес к науке ослаб, а страсть к музыке и поэзии окрепла еще больше. Но разрыв остался скрытым, и через день-два я о том забыл.
Более всего в жизни я обязан сэру Алистеру Лайеллу, о ком написал немало в других своих работах. С ним мы познакомились в декабре 1955-го, когда мне было тринадцать лет; с тех пор до самого конца своей жизни, оборвавшейся через двенадцать лет, он был мне самым близким из всех людей, включая отца и мать.