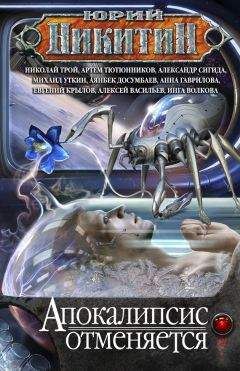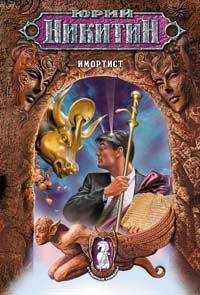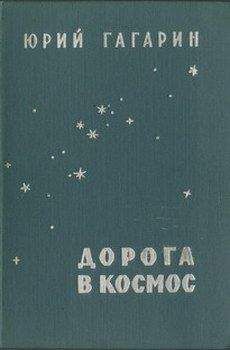Демокед запретил движение – и почти все время неподвижно сидел на склоне холма. Зимой его по плечи заносило снегом.
Торгвальд отказался от речи, кроме утренней молитвы и нескольких необходимых фраз по вечерам.
Демокед избегал отдыха – а так как и движения себе не позволял, чтобы тело не было в праздности, он закидывал на плечи мешок, полный камней, и туго затягивал лямки. Теперь всегда его тело находилось в страшном, мучительном напряжении.
Торгвальд залепил смолой уши, отобрав у себя слух.
Игнатий и остальная братия с содроганием наблюдала за состязанием двух аскетов, устремившихся в рай.
По просьбе Демокеда ему сшили из кож тугой, непроницаемый для света колпак, и он закрыл им глаза.
Торгвальд, с отчаянием сознавая, что по-прежнему недостаточно усерден, лишил себя легкости дыхания. Он срезал тонкий тростниковый прут и привязал к ногам тяжелый камень. Потом он погрузился в ручей и провел на илистом дне долгое время, дыша сквозь узкую трубку. Поднимался лишь для того, чтобы срезать новую.
Со времени первых шагов прошло два мучительных года, но на третий Торгвальд, надорванный непосильной ношей, слег, и три месяца жизнь его едва тлела. Нелегко пришлось и Демокеду, но все же он оставался на ногах и продолжал продвигаться к сверкающим вратам! Поэтому, едва Торгвальд почувствовал в себе биение жизни, он вновь ступил на этот нелегкий путь. Помешал Игнатий: храм был слишком стар и обветшал, и настоятель требовал необходимой для его восстановления работы, уверяя, что она – еще одно необходимое условие пути.
Теперь ежедневно Торгвальд ходил по болотам к далекому лиственничному лесу и там до изнеможения валил могучие деревья, обрубал сучья, обтесывал, когда же падал от усталости, ползком волок бревна к храмовому холму. В день он доставлял по пять таких бревен, и, если не успевал, волок их ночью, при свете луны или зари, в кромешной тьме, в рассветном сумраке или в сиянии покрывших холм снегов.
Демокеду тоже пришлось трудиться над восстановлением храма, и Торгвальд с ликованием видел, что в этом деле непобедимый аскет ему уступает. Созидание давалось ему гораздо большим трудом, чем аскетические подвиги.
Однажды их обновленный храм посетили несколько человек из далекого цивилизованного мира, о котором до этого Торгвальд знал лишь со слов Игнатия.
– Изувер! Нет никакого рая! – смеясь, сказал Торгвальду один из них.
Имя его звучало так же скверно, как он себя вел, – Журналист. Так диковинно его прозывал Игнатий, сам человек называл себя по-другому.
– Я напишу о тебе, – говорил он Торгвальду. – Ты был где-нибудь, кроме этого леса? Ты видел настоящий мир? Думаешь, вокруг тебя настоящий мир? Ты дикарь! Изувер! Что скажут люди? Подумать только! Давай я тебя сфотографирую на фоне этих болот.
Он еще долго дразнил его непонятными речами, но Торгвальд стерпел. Он знал, что этому Журналисту никогда не достичь рая. Он прибыл в храм из лживого, несовершенного мира и в него и вернется.
– …Со временем пришло понимание, что, как бы я ни старался, все-таки этого слишком мало, – сказал Торгвальд, окидывая взглядом людей, сидящих с поджатыми ногами на застывших в воздухе неудобных креслах. – Те слова все же заронили семена жуткого подозрения, что никакого рая нет. Есть только этот мир. И это означало, что существует риск никогда не достичь сверкающих врат. А риск – это лишь результат недостаточности усилий. Семена проросли, я покинул храм и настоятеля с Демокедом и с того времени тратил жизнь не на разрушение крохотного себя, а на большое строительство. Сейчас я располагаю властью, технологической мощью, ресурсами и людьми. Тех, прежних, усилий для этого оказалось бы недостаточно, хотя когда-то я полагал, будто делаю все, что могу. Хорошо, что разум мой не успел окаменеть до прибытия в наш далекий северный храм этой экспедиции.
Человек может неизмеримо больше, чем мог тогда я. Путь к вратам должен быть преодолен во что бы то ни стало. И если рая нет, мы сами сотворим его!
Здесь и сейчас собрались те, кто думает так же. Мы долго искали друг друга по всему миру, и, чтобы найтись, всем нам пришлось как следует постараться, – Торгвальд улыбнулся. – Контракт – гарант того, что начиная с сегодняшнего дня, с этой самой минуты мы будем стараться сильнее. Мы приложим такие усилия, что никто не сможет сказать, будто можно совершить еще больше.
Мы подписали Контракт добровольно. Мы знаем, что нас ждет в случае его несоблюдения. Среди нас – лучшие представители человечества – ученые, инженеры, философы, художники, творцы. Наши банковские счета и счета членов наших семей заблокированы. Все наше имущество заложено. В наших телах неизвестный нам препарат, и он убьет нас, если мы не введем также неизвестное нам противоядие. Сейф с ним откроется только по выполнении первого пункта Контракта: это – создание необходимых философских, экономических и политических систем, технологий первой ступени. Противоядие обезвредит препарат, но само убьет нас через некоторое время, если не ввести новое – по выполнении второго пункта: создание философских, экономических и политических систем и технологий второй ступени. И так будет продолжаться, пока не исполним десять пунктов Контракта. По достижении личного бессмертия нам придется найти новое средство взамен яда и продолжить работу над остальными сорока семью пунктами. Мы достигнем результата. Мы – в начале пути, хотя когда-то мне казалось, что я уже прошел достаточную его часть.
Визжа от первобытного восторга, степняк неистово рубил кривой широкой саблей; крепкий конек под ним хрипел, кусался, напирал. Кобыла, сраженная вражьей стрелой, пала в самом начале, меч давно выбили из рук.
«Вот она, смерть», – промелькнуло.
Садовский упал. Степняк, не переставая визжать, легко спрыгнул с конька, замахнулся. В руках уже не сабля, а длинная колючая веревка. Он быстро и ловко опутал Садовского, свободный конец веревки намотал на руку. Потом с лютым хохотом помочился, старательно метя в лицо, и вскочил на конька. Снова выхватил саблю и, дико взвизгнув, до крови кольнул его в задницу. Необоримая сила сдавила, размазала, а останки поволокла по острым камням.
Но он еще жил, когда привязывали к иззубренному, в бурой корке, столбу, видел, как сбегается кровожадно толпа. Уродливые степные женщины швыряли в него палки, царапались и плевались, а из шатров выходили свирепые воины, и каждый держал короткий, сильно изогнутый лук. Первая же стрела ударила в грудь.
Его пронзила непереносимая боль, она трескуче разорвала потемневший мир, как кусок плотного черного ватмана, Садовский закричал и… проснулся от собственного крика и жуткой, раскаленной боли в груди!