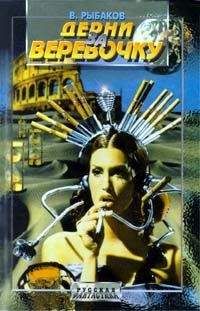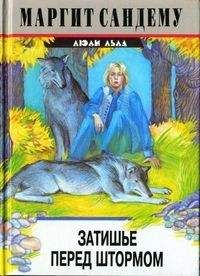Завтра я Ее увижу, думал Дима. И скажу: во вторник едем. Просто так и скажу, как будто все само собой разумеется. И Она будет рада. Будет рада! Во что бы то ни стало нужно уехать дневным. Десять дней не виделись.
Стариковски закряхтев, Шут поднялся, добрел до горки подарков на комоде и пригляделся. Выдернул фоторепродукцию Нефертитиной головки, посредством которой канцелярские магазины и киоски «Союзпечати» вот уже больше года приобщали людей к прекрасному. Издевательски вгляделся в обветренный веками профиль. Из нагрудного кармана ковбойки достал фломастер и вдруг принялся размашисто писать поперек портрета. Лидка вскочила:
– Шут!
Но Шут успел. Когда Лидка подбежала, он, скалясь, перебросил картинку Димке. Поперек изображения подбородка и шеи многотиражной красавицы тянулось жирно и завитушечно: «Как ни крутите, ни вертите, но все же шлюха Нифертити». Дима отдал поруганный подарок подбежавшей Лидке, она глянула.
– Идиот, – сказала она с обидой.
– За что ты ее? – спросил Дима.
Шут походкой Юла Бриннера, подпружинивая шаг и чуть разведя неподвижные руки, вернулся на место. Надломленно сел.
– Надоела, – сообщил он. – Затрепали, аж лоснится.
– Она ведь не виновата, – проговорила Лидка, жалостливо разглядывая репродукцию.
– Не виновата? – с неожиданной злобой переспросил Шут. – Муж державу спасал, один-одинешенек против своры аппаратчиков, а у нее одно: Эхнатончик, что ты нынче молчаливенький… а посмотри, котик, какую диадемку мне почтительнейше поднес председатель Мемфисского горкома… а не пора ли нам полежать голенькими?
Лидка уже хихикала. Она смеялась, кажется, любой, даже самой плоской остроте Шута, а если ему удавалось отмочить что-то стоящее – прямо падала.
– Козел, – глухо произнесла Ева, не открывая глаз и не поднимая лица с ладоней.
– А из нее мне идеал творят, эталон! С какой стати? Право слово, ведь в том же Египте была Хатшепсут! На ряшку не хуже, да и человек дельный, настоящий правитель, лучше многих мужиков. Понастроила сколько! И не сфинксов дурацких, а для дела! В документах так и писали: повелитель Верхнего и Нижнего царств. В мужском роде…
– Все ты знаешь, – с неприязнью сказала Ева. – Умный какой. Что-то Лидка твоя на эту Хат мало похожа.
– Естественно. Будь она в мужском роде, – оскалился Шут, – я бы ее зарезал…
Дима, не выдержав, негодующе фыркнул.
– Что? – взъярился Шут. – Конечно! Но я и не предлагаю ею восхищаться до вековечных соплей! Скажи, дитя мое, ты – эталон?
– Я – жемчужина гарема, – игриво ответила Лидка, и Диме стало неприятно за нее. Шут потрепал ее по голове.
– Ах ты, лапушка, – проворковал он, – свое место разумеешь.
И как награду положил ладонь ей на ногу. Лидка просто расцвела и сдвинула колени, поймав Шута. Перехватив Димин взгляд, Шут сообщил:
– И слабым манием руки на ней я расстегнул портки.
– Каз-зел, – повторила Ева и взялась за фужер.
– Это мысль, – сказал Шут и свободной рукой ухватил свой. – Давайте треснем. Дымок, у тебя есть?
– Есть.
Ева, не отпив, поставила. У нее были совершенно хмельные тоскливые глаза.
– Мне с тобой и пить-то тошно.
Шут отпил, аккуратно поставил фужер.
– Глянь на себя, – проникновенно сказал он, через стол вперив в Еву длинный палец. – Уродство Сатаны – ничто пред злобой женщины уродством.
Ева смешалась на миг. Запахло совсем уже остервенелой перепалкой, и Дима, стараясь разрядить обстановку, поспешно и несколько опрометчиво заполнил паузу, перетянув внимание на себя.
– Бросьте вы, – сказал он. – Давайте я вам лучше сказку расскажу. К случаю подходит.
– Сгораем от желания, – Шут немедленно принял позу крайнего внимания.
– Конечно, Дымочек! – воскликнула Лидка обрадованно.
Дима не ожидал, что они так быстро согласятся. Он медленно отхлебнул вина, пытаясь срочно что-то придумать. Искательно посмотрел на Шута, но тот был непроницаемо-внимателен. Даже не скалился. Ситуация скалилась сама за себя. Шут знал, что импровизировать Дима не умеет. Импровиз – Шутова привиления и прерогатива, спокон веков.
– Рома! – крикнула Ева в глубину комнаты. – Рома, Таня, идите сюда! Дима сказку будет рассказывать!
Один из танцующих, не оборачиваясь, пренебрежительно махнул рукой и снова облапил партнершу.
– Итак? – спросил Шут.
Дима допил вино, поставил бокал.
– Э-э… Значит, вот.
– А ты сам ее придумал? – спросила Лидка.
– Думаешь, я ее уже придумал? – честно ответил Дима.
– Нам предстоит быть свидетелями творческого акта, – пояснил Шут Лидке. – Возможно, даже участниками.
– Групповуха, – заключила Ева.
– Дай-ка я тебе подолью, – сказал Шут и поднял бутылку, потянулся с ней через стол.
– Подлей, – согласился Дима и залпом выпил. – Э-э… Лет за пятнадцать до того, как… это самое… выступил на престол отец наш, Петр Ликсеич… кузнец жил-был. Василий. Силищи необычайной, скажу я вам, – лошадь на себе носил. И умом его, как ни дивно сие сочетание, Господь не обидел. Ох, и смекалистый был кузнец!
– Поняли, поняли, суть давай! – с презрением перебила Ева. Лидка, добрая душа, сразу вступилась:
– А ты не мешай! Не интересно, так поди и попляши!
– Нет, я досижу, – ответила Ева и демонстративно устроилась поудобнее.
Дима покрутил пустой бокал. Выбили из ритма, едва замерцавшая волна сгинула.
– Смекалист, значит, был, – подсказала сердобольная Лидка, устроив подбородок на кулачке. Шут царственно откинулся на спинку дивана.
– Эт точно, – согласился Дима. – По всему северу слава шла… В Архангельске дело-то было, – догадался он. – Индо немцы всякие диву давались, нарочно забегали в кузню из своих фахторий – смотрели, ахали, к себе звали. Не шел.
– Крутой патриот был, – предположила Ева.
– Землю свою любил, – пожал плечами Дима.
– Жену, – предположила она.
– Не было жены. Никого не было. Имела, правда, на него глаз Авдотья, дочка посадского одного. Девка в самом соку, что говорить. Белая, пышная, коса до пят… Вроде и сладили уж все, да тянул кузнец, как-то ему было не так… Подозрение, конечно, Дуню взяло – не иначе, отваживает кто. Стала… Нет, братьев подговорила проследить. Вызнали, конечно. Каждый… кажинный вечер ходит кузнец на хранцузскую фахторию и часа три, а то и поболе, там проводит. И на фахтории-то его уж знают, привечают: ах, мол, мусью Базиль, как же вам не очень утомительно ходить кажинный вечер по пять верст туды-сюди, вы б и вовсе к нам, такому мастеру чрезвычайно рады будем… Вызнали – ходит он к купцу Жозефке Фременкуру, у коего дочка на выданьи. Страшна, что война – губы да глазищи, а уж сухоляда-то, прости Господи, чистая чахотка! И вот эдакая фалиса предилекцию Василию вытворяет. Подглядели в окошко: сидят, значится, двоечко – да кака ж девка вдвоем с чужим мужиком усядется, это ж жупел выходит! Содом и Гоморра! И вроде бы, прости Господи, книжку читают. Книжка-то не по-нашему накорябана, так Жанетка эта вроде как на язык толмачит, а уж чего такая протолмачит, как не порчу на мужика! На обложке корабль ихний изображен весьма затейливо, с парусами раздутыми, значится, едет по волнистой воде, и дым от дырок в боках. Васька, дурень, головушку свою буйную кулачищем подпер, на Жанетку глазеет, ровно на камень яхонт какой, и глазыньки-то у него горят, и сам-то дрожит, и щеки-то пятнами – слушает, брательнички видят – погиб человек, приворожила мосластая ведьма. Принялся Васька руками вдруг махать, говорит громко: «Эх, кабы у нас!» Поняли – на шабаш подговаривают, на оргию. После она прощаться стала, из-за стола поднялась, а он не уходит, вроде неймется ему, говорит: еще, еще! А она с отъявленным своим картавлением лопочет: ах, мол, нет, мол, мусью Базиль, у вас может быть неприятность с родителями невесты, никто не поверит, что вы ходите из-за книг. А Васька уж и вовсе не в себе: пущай не верят, кричит, да и не из-за книг одних я хожу сюды, свет мой ясный Жанетка, – без тебя мне жизнь не мила! Едва уйду, такая тоска берет, хошь вой, ровно пес бездомный! Тем я живу, что вечером сызнова к тебе, а ты ждешь меня, красавица ласковая, ясная головушка… за тобой весь мир мне открывается, а за мной – един только хлев мой грязный да тупые наши людишки. Скажи, говорит, люб ли я тебе хошь на столечко… А она, ведьма, алеючи к нему повертывается: да я, говорит, кажинную ночку во сне тебя вижу, сокол ты мой, раз не приди – тут я помру. Захрипел тут Васька, накинулся, зацеловал, а она жмется к нему, паскудница, и чего-то по-своему бормочет. Во-от… Посля она спрашивает: как жить-то будем? Ох, не знаю. Васька говорит, и в ноги к ней, в подол грязный уткнулся, нюхает, дурень, дурман прелестный, коленки будыластые обнимает. Не могу я без земли этой, без погоста, где мамка лежит, – режь меня на куски, собакам брось, – и без тебя не могу тож. Она ему: и мне, мол, без тебя не жить. Все, как скажешь, будет, как захочешь, господин мой милый, вот я, твоя!.. Нет, Васька говорит, не могу я так, краса ненаглядная, лебедь чистая, все чин чином сотворим, и будь что будет…