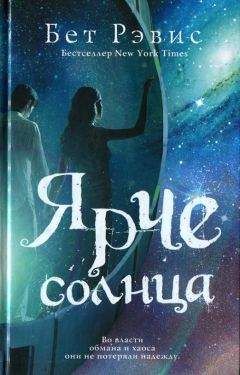— Мое внимание привлекло то, что там говорится об инерции, — продолжаю я и принимаюсь мерить шагами комнату — привычка, которую я перенял у Эми. Я перенял у нее много разного, в том числе и то, как она во всем сомневается. Абсолютно во всем.
И венчает все сомнения страх, который я всегда слишком боялся озвучить. Всегда, но не сейчас. Не сейчас, когда я стою перед корабельщиками, а за спиной у меня скрежещет хромой двигатель.
Снова на секунду закрываю глаза, и в темноте под веками вижу своего лучшего друга Харли. Я вижу зияющую пустоту космоса, в которую затянуло его тело, когда открылась дверь шлюза. Вижу тень улыбки, которая играла на его губах. За миг до того, как он умер.
— В космосе нет внешних сил, — произношу я, и мой голос звучит лишь чуть громче, чем «жжж, бам, жжж» двигателя.
Не было силы, которая смогла бы остановить Харли, когда три месяца назад он вылетел из двери шлюза. А теперь, когда он оказался в космосе, нет такой силы, что остановила бы его вечный полет меж звездами.
Корабельщики смотрят на меня в ожидании. Марай сощурилась. Она мне не поможет. Придется вытягивать из нее правду.
Я продолжаю:
— Старейшина сказал мне, что двигатель теряет скорость. Что мы на сотни лет отстаем от графика. Что нужно починить двигатель, иначе мы рискуем никогда не добраться до Центавра-Земли.
Оборачиваюсь и смотрю на двигатель, словно он может мне ответить.
— Но это не нужно, так? Нам не нужно топливо. Нам просто нужно набрать максимальную скорость, а потом мы могли бы выключить двигатель. Снаружи нет ни трения, ни силы тяжести — корабль двигался бы до самой планеты.
— Теоретически. — Не знаю, почему в голосе Марай звучит такая осторожность: потому что она сомневается в этой теории или потому что сомневается во мне.
— Если двигатель не работает — и не работает уже десятилетия, — значит, проблема в том, что мы летим слишком быстро, так? Мы просто пронесемся мимо планеты… — Теперь в моем собственном голосе появилась неуверенность — эти слова идут вразрез со всем, что было мне известно до сих пор. Но я изучал проблему двигателя с тех самых пор, как умер Старейшина, и У меня просто не получается сопоставить то, чему он учил меня, со знаниями, полученными из сол-земных книг. — Космос побери, нам нужно волноваться о том, что мы врежемся в Центавра-Землю, потому что не можем затормозить, а не о том, что будем бесцельно дрейфовать в пространстве, правильно?
Такое ощущение, будто даже у двигателя есть глаза и они наблюдают за мной.
Обводя взглядом корабельщиков, я вижу, что все они — все! — знали, что проблема двигателя не в недостатке топлива или скорости. С самого начала знали. Я не сказал им ничего нового. Конечно, главным корабельщикам известны и Ньютон, и физика, и инерция. Ясное дело. И конечно, они понимали, что слова Старейшины о негодном топливе и о том, что мы ковыляем по космосу, отставая от графика, были абсолютным враньем.
И что я долбаный идиот, потому что верил ему.
— Что происходит? — спрашиваю я. Стыд подстегивает мою ярость. — С двигателем вообще проблема-то есть? А с топливом?
Глаза корабельщиков обращаются к Марай, но Марай просто молча смотрит на меня.
— Зачем Старейшина врал мне об этом? — Я чувствую, как теряю контроль над собой. Не знаю, чего я ожидал — что с ходу решу главную проблему, а корабельщики мигом все исправят? Не знаю. Я особенно и не думал о том, что будет после того, как скажу им, что законы физики не вяжутся с объяснениями, которые мне дал Старейшина. И не думал, что, когда я скажу им все это, они посмотрят не на меня, а на первого корабельщика.
— Старейшина врал тебе, — спокойно произносит Марай, — потому что мы врали ему.
Капля воды разбивается о металлический пол.
Я жмурюсь, не обращая внимания на холод, и концентрируюсь на черноте под веками.
— Ехать на машине по длинной пустой трассе, — говорю я вслух, и голос мой эхом отталкивается от высоких закругленных стен. — Опустив стекла. И включив музыку. Громко. — Я стараюсь припомнить детали. — Так громко, что от звука вибрирует дверца. Так громко, что изображение в зеркале заднего вида расплывается, потому что оно тоже вибрирует. И, — добавляю, по-прежнему не открывая глаз, — высунув руку в окно. Растопырив пальцы. Как будто лечу.
Еще одна капля падает на этот раз мне на босую ногу, и мурашки от нее пробегают от ступни До самых корней волос.
— Ехать на машине. Сегодня я больше всего скучаю по этому, — шепчу я. Глаза раскрываются, а руки, которые я глупо подняла, воображая, что еду по дороге, безвольно повисают.
Нет больше машин. И нет бесконечных дорог.
Только это.
Два подтаивающих криоконтейнера на космическом корабле, который сжимается с каждым днем.
Кап. Бульк.
Я играю с огнем, я знаю. Точнее, со льдом. Мне бы засунуть родителей обратно в камеры, пока они еще сильнее не растаяли.
Но я этого не делаю.
Верчу в пальцах крестик на цепочке, один из немногих сувениров с Земли, которые мне остались. Вот так — сидя на полу криоуровня, пялясь на своих замороженных родителей и вспоминая, о чем еще я скучаю, — так я теперь молюсь.
Как-то раз Старший начал посмеиваться надо мной за то, что я молилась, и я целый час его за это отчитывала. В конце концов он поднял руки, сдаваясь, и со смехом сказал, что я могу верить во что угодно, если собираюсь так крепко держаться за свою веру. Ирония в том, что сейчас все, в том числе и все, во что я верила, утекает у меня сквозь пальцы.
Раньше было проще. Легче. Все было распланировано. Нас с родителями заморозят. Мы проснемся через триста лет. И планета уже будет ждать нас.
Единственное из этого плана, что в итоге исполнилось, — нас и вправду заморозили. Но потом меня разбудили слишком рано… нет. Нет. Он разбудил меня слишком рано. Старший. Нельзя дать себе забыть об этом. Нельзя дать себе забыть, что я здесь по его вине. Нельзя дать тем трем месяцам, что мы провели вместе, стереть целую жизнь, что он у меня отобрал.
Мгновение мне видится лицо Старшего — не то, красивое и благородное, каким я вижу его теперь, а размытое и блеклое, каким увидела в первый раз. Когда он присел над моим нагим, дрожащим телом, вытащив из стеклянного гроба с полурастаявшей жижей, в котором меня нашли. Мне вспоминается теплое журчание его голоса, то, как он сказал мне, что все будет хорошо.
Ну и врун.
Вот только… это ведь не так, да? Из всех на этом корабле, включая даже замороженные тела моих родителей, Старший был единственным, кто сказал мне правду и согласился ждать до тех пор, пока я ее приму.