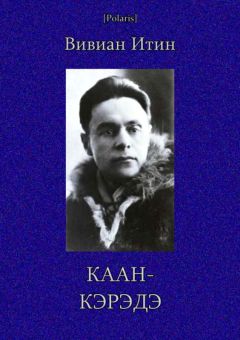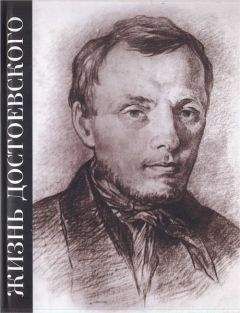Хорошо, доктор! — прервал Гелий, явно любуясь необычайностью положения. — Ты хочешь усыпить меня и сделать только одно внушение: чтобы я вернулся в Страну Гонгури? Хорошо. Я готов на какие угодно опыты! Я только думаю, что меня трудно загипнотизировать… Впрочем, когда я засну, ты можешь попытаться. Сегодня я спал не более пяти часов.
Врач кивнул головой.
Коридор наполнился гиком и хохотом. Нелепо взвизгнула частушка. Кто-то тяжелый остановился у камеры, и в круглой дырке двери забегал мутный глаз.
— Не спишь, гады! — заорал голос. — Скоро тебе крышка.
Шум исчез, лязгнул железными зубами на гулкой каменной лестнице.
Старик прижал руку к решетке ребер. Гелий взглянул в побледневшее лицо и, вспомнив, заговорил спокойно:
— Что с тобой, Митч? Все хорошо. Я хочу плюнуть в глаза смерти. Что в самом деле дремлет в нас? Четыре года я знаю тебя, и теперь, здесь, ты остался таким же изобретателем экспериментов, каким был… А! Как мне сказать? Слышишь — тюрьма, камень, кованые приклады, гвозди сапог. Камень и железо. Ничтожество. А мы займемся нашим опытом! Я готов. У меня нет других мыслей…
Свеча погасла. Серый сумрак проник в квадраты окна. Гелий говорил:
— Теперь надо скорее заснуть. Спокойной ночи… — И совсем по-мальчишески улыбнулся. — Итак, мы отправляемся в Страну Гонгури!
Он отвернулся, закрываясь своей английской шинелью, снятой после боя с мертвого врага.
— Спокойной ночи, — машинально сказал врач.
Скоро он услышал ровное дыхание спящего, привыкшего засыпать в короткое время отдыха в грязи пристаней и вокзалов, в открытом море в бурю, в заставе перед тем, как идти в снега величайших равнин и стоять часами на грани борющихся миров и смерти.
Врач смотрел в лицо Гелия, освещенное голубоватым светом, и мысли его кружились. Его лихорадило. Он бормотал бессвязно.
Электроны света, мысль в его мозгу… Мир… Мозг… Непонятно…
Он с усилием встал, очнувшись, и осторожно взял руку Гелия.
— Ты спишь, — сказал он, — спи! Волны мрака укачивают, как море.
Он приступил к своим внушениям.
Грудь Гелия расширилась. Он бредил и жестикулировал. Потом лицо внезапно побледнело, словно невидимая рука сдернула с него маску.
— В сущности, все гипнотические состояния индивидуальны, — пробормотал врач, прижимая пульс спящего, сам почти загипнотизированный спокойствием сна.
Тюрьма, камень, железо. В сумеречном сознании мелькнули врезавшиеся в память дни. Лицо Гелия было неподвижным.
… Гольден Гейт. Синяя соль и густой ветер. В России революция, Октябрь… После долгой работы он зашел отдохнуть в первую открытую дверь. Это был матросский салун. Грязные сильные люди всех рас. Крики многих наречий. И в центре, он сразу заметил у подвального окна, напряженное от потока мысли лицо, такое же, как теперь.
…Чудовищные леса и деревни. Морозы, пред которыми градусы Фаренгейта из сказок Лондона — оттепель. Костры под лапами громадных елей. Крутящиеся саваны буранов… Потому что Гелий сказал тогда твердо и безоговорочно: «Надо ехать». Тихий океан остался на востоке, но огневая завеса уже разделила Азию и Европу.
…Хаос первоначальной власти. Сражения. Коммунистические отряды, скрывшиеся в тайге. Санитарная повозка под шкурой медведя. Ремень винтовки, прилипший к плечу Гелия… В декабре их окружили. Несколько человек по обычаю бандитских войн были доставлены живьем… Это — они.
Врач зажег спичку, чтобы закурить. Резкий свет упал на веки Гелия, спящий вздохнул глубже. Врач быстро бросил пламя.
Единственной его надеждой была миссия Соединенных Штатов, приехавшая в город. Говорили, что американцы, помогая излюбленному порядку паровозами и теплым бельем, иногда бывали в тюрьмах перед большими расстрелами, стесняясь финансируемого ими варварства, и, кажется, спасли кого-то. Он слышал фамилию Д. Мередит. Не тот ли Мередит, которого он лечил?
Врач эмигрировал сразу после 1905 года. Ему «повезло», как говорили. Он спокойно практиковал на Клэй-стрит, постепенно терял прежние знакомства и не думал больше о борьбе. Его стали звать «Мастер Митчель», друзья сокращенно — «Митч».
«Гелий! Он странно вошел в мою жизнь», — думал врач.
Он улыбнулся, вспомнив их встречу. Голод перемен и выхода был в нем сильнее первой любви…
Ему показалось, что лицо спящего стало еще поразительнее. Он взял его руку. В памяти зазвучали обрывки стихов, к которым приучил его Гелий. Он бормотал их вслух, не владея собой:
— Сердце губит радостная жажда,
Лучше умереть, но заглянуть…
Он смотрел в неподвижное лицо. Ему становилось не по себе. Точно огромный полет…
— Пульс!
Сердцебиение спящего замедлялось с угрожающей правильностью. Врач принялся будить его. Неожиданно это оказалось трудным. Гелий открыл глаза, но не отвечал на вопросы и смотрел с таким сумасшедшим удивлением, что врач невольно отступил в страхе. Громко повторяя фразы, он стал рассказывать о происшедшем. Прием подействовал. Скоро Гелий стал более внимателен к окружающему и нахмурился от воспоминаний. Врач зажег свечу, велел Гелию закурить. Привычные ощущения лучше всего повлияли на него.
Он нерешительно взял обломок зеркала.
Я не изменился? — сказал он.
Ну как ты себя чувствуешь? — робко спросил врач, но Гелий только покачал головой.
Он сел на койку, опуская лицо в ладони. Далеко в городе ударил колокол. Гелий выпрямился.
Сколько времени? — быстро спросил он.
— Час.
— Час! Скоро рассвет.
Он глубоко вздохнул и продолжал очень спокойно, как будто говорил о деле.
— Поздно… Да, кто-нибудь должен знать. Садись, Митч, слушай, что это было. Я закрою глаза, чтобы лучше видеть. Слушай!
Его речь зазвучала необычно:
— Я Риэль, так меня звали раньше, я Гелий, видел сегодня мир с непредставимой высоты. Я хочу тебе рассказать об этом… Я был Гелием и стал Риэлем… Вернее, наоборот. Но это лишь теперь я помню последовательность видений, тогда же было совсем иное. Видимость реального ничем не отличалась от обычного состояния вещей. Мне было приблизительно 24 года, как теперь. Это не значит, что моя жизнь длилась в течение 24 оборотов Земли вокруг Солнца — земные меры вообще неприложимы к миру, где я назывался Риэль, но я все же буду употреблять их, потому что кажущееся для нас понятнее действительных соотношений. Да… Сначала я спал, потом моя жизнь стремительно потекла назад, к своему первоисточнику. Друг за другом возникали предо мной все более и более ранние картины, словно тени фильмы, разорванной и соединенной так, что последние сцены стали первыми и первые — последними. Промелькнули школьные годы; началось детство. Я читал давно забытые книги, уносившие меня на воды Амазонки и Ориноко, на таинственные острова и далекие планеты. Я помню себя совсем крошечным ребенком, влюбленным в нянины сказки, безумная фантазия которых так торжественно звучала в темной детской, при свете зимних звезд; я внимал им и забывал себя. Потом я подошел к огромному дереву, несомненно, из учебника ветхого завета, и тогда, подобно смутному сну, во мне родилось воспоминание об этой жизни, хотя пред собой я видел только степь, но старик, похожий на оперного статиста, дал мне жемчужину величиной с голубиное яйцо, и я улыбнулся, уверившись, что вспоминаю лишь грезы дневного сна. Я стал смотреть на тусклый свет жемчуга, и мое сознание постепенно погрузилось в него, пока не наступил хаос… Но сияние жемчуга длилось. Бледная тончайшая пыль наполнила пространство. Сначала, как звездная туманность, скопилась в небольшой фосфоресцирующий шар. Он лежал в руке статуи, изображавшей мыслителя. По-видимому, все вместе, статуя и удивительный шар, представляли собой нечто вроде художественного ночника. Я отвернулся и попытался заснуть, но не мог. Свет раздражал меня, и я не мог забыть каменного лица, отражавшего напряженное внимание неведомого духа, неприятно-бледного лица, освещенного голубоватым сиянием… И вдруг у меня явилась мысль исследовать вещество голубого светильника в моей машине. Тогда где-то в самом центре я ощутил непередаваемый толчок. Так бывает, когда вдруг забудешь что-нибудь… С этой мыслью я вошел в Страну Гонгури. С этого момента я ничего не помнил о себе. Я стал человеком другого мира.