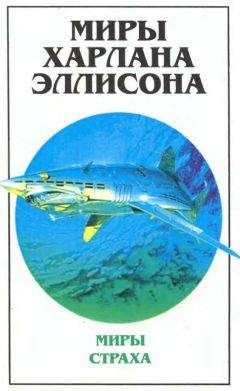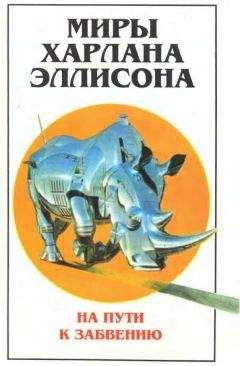- Ордак, как я могу сказать, что все будет хорошо, когда с каждым днем становится все хуже? Ты знаешь, он не может выйти, и мы должны жить здесь... Его не потерпят снаружи, даже по дороге в космопорт. Мы в ловушке здесь, моя дорогая.
Она встала, оправив свободную тунику и юбку. Аккуратно уложенные волосы прикрывали бородавку на правой щеке. Конечно, о ее уродстве знали, но, невидимое, оно переносилось легче.
Ордак все стояла, размышляя о том, что принесет будущее, и слепой муж сидел у ее ног, когда будущее рухнуло с небес. Оно просто было - не дурное, не хорошее, а какое выдалось. Жизнь прошлась тяжелой поступью сама по себе.
Покуда Ордак стояла в молчаливом раздумье, нарушился энергопередающий луч межконтинентального вертокрыла, чуть сместился, никем не замечено, силовой фокус - и могучий аппарат рухнул с высоты две с половиной тысячи футов, мгновенно уничтожив надземную часть дома. Он втоптал здание в землю, оставив в сохранности лишь машинный погреб. Оставив для спасателей и анализаторов, что пришли потом, дабы оценить нанесенный ущерб и спасти тех, кто остался в живых.
Над землей выживших не было. Последние двое несовершенных на Топазе отправились в общительное спокойствие, туда, где ни красота, ни уродство не имеют значения. Туда, где все мягко-серое и нежно-теплое от близости друг друга.
Так следует думать об этом.
Но под землей...
Вот тогда кошмар начался по-настоящему. То, что двадцать лет таилось в засаде, с рыком бросилось на глотку красоты Топаза.
Он медитировал. И медитирующим его нашли.
При помощи трамбовочных лучей, что сплавляли обрывки металла и куски пластика в прочные стены приятных пастельных тонов, они пробрались через обломки. А достигнув тайной комнаты - дверь ее никак не ублажала глаз, остановились в растерянности, размышляя, что же предпринять.
Их было трое. Чрезвычайно красивые мужчины.
Первый - блондин с широко посаженными глазами и внешностью чиновника, в тунике золотисто-медной. Он вел себя невозмутимо, как человек, уверенный в своих способностях и красоте. Чрезвычайных. Второй был на несколько дюймов пониже первого - а тот имел футов шесть роста, - темные, курчавые волосы скатывались на лоб с изяществом пантеры, кидающейся на ягненка. Руки его, благодаря мастерству пластихирурга, казались короче положенного, но то было рассчитанное несовершенство, оборачивающееся совершенством - в сочетании рук с длинным торсом и короткими ногами. Превосходно исполненная работа - пропорциями второй мужчина походил на Адониса.
Третий мог служить классическим древнегреческим образцом мужества и одаренности. Его глубоко посаженные серые глаза сияли властностью и сочувствием. Походка его была шагом легионера, а речь - мерным говором мудреца. Он никогда не облысеет и улыбка его не померкнет.
- В жизни не видел ничего подобного, - сказал курчавый анализатор по имени Роул.
- Это ведь не стандартный машинный погреб? - спросил старший по имени Прате.
Третий из них, Хольд, с мудрой иронией покачал головой:
- Нет, и, должен признать, это весьма безобразно. Некрашено. Грубо.
Он чуть вздрогнул по-женски. Но это было в характере Хольда, и никто из его товарищей не заметил, как это некрасиво
- Давайте откроем, - предложил Прате, взявшись за трамбовщик.
Остальные двое не ответили, а значит, согласились, и Прате включил луч. Хлынула широкая дуга сладостной яблочной зелени. За несколько секунд дверь оплавилась по краям и распалась на две совершенно симметричные половины. И пришедшие глянули во вздыбленную тьму.
Он медитировал. И медитирующим его нашли.
Поначалу, в первых каплях сочащегося из-за их спин света, они не поняли, что перед ними человеческое существо. Он был серой грудой, сваленной в углу, голова опущена, руки покоятся на чреслах.
Затем, по мере того как прояснялись детали, каждый из троих по очереди задерживал дыхание. Прате первым вошел в комнату, и голос его был почти не приятной смесью удивления и омерзения.
За ним следовал Роул, и, разглядев Человека, он издал вопль ужаса вначале округлый, затем грушевидный, длинный и, наконец, разбившийся: "Как гнусно!" И выражение его лица было некрасиво. Чрезвычайно.
Хольд направил фонарь в угол и тут же отвел луч, осветивший в своих безумных блужданиях всю комнату: голые стены, тарелочку с остатками каши, циновку на полу. Затем луч вернулся, но теперь озеро света заливало пол и краешек ягодиц Человека, чтобы в тени оставалось лицо, о, это лицо!..
Огромная голова, копна нечесаных почти седых волос, сбившихся в колтуны на висках. Тяжелая челюсть, и рот, точно косая рваная прорезь в блеклой плоти. Большие, прижатые к голове уши.
И глаза...
Пыльные глаза...
Две глубочайшие впадины, где клубилась пыль. Серость разлагающегося трупа. Серость штормовых туч. Серость несчастья и смерти. Глаза, глядевшие столь глубоко и ничего не видевшие. Уродливые глаза.
Гармоничные мужчины подняли свои упаковщики, a Человек шевельнулся и встал, и наступила сумятица.
Вначале был свет, а потом несвет. Вначале было тепло, а потом нетепло. И...
Вначале была любовь, столь глубокая, что в сердцевине ее крутился водоворотик, вертелся и извивался и крутился, как женщина в теплой ванне. Наслаждение бытием, приятность скольжения в благодушие, в отсутствие боли. Глубина мысли, мысли о чудесном и обыденном. О том, как широка она, и где она, и где же окраины ее. И все такое.
Потом была нелюбовь. Но на место любви пришло не отсутствие ее, не пустота, какую оставили по себе свет и тепло. На место ее пришло нечто иное. На место ее пришла не пришла не могла не прийти пришла Ненависть!
Много позже, когда солнца сели и луны вышли скорбеть зловеще и молчаливо над Топазом, миром красоты, - тогда явились другие. Они нашли три тела, такие уродливые в смерти, такие жалкие, раздавленные, растрепанные.
Они забрали его. Они вывели его, говоря: "И все это, и это все..." И много было проклятий и оскорблений. И ненависть была, и сознание, что он выродок. Пария. Ужасно! Он был уродством посреди красоты. "Что же нам делать с ним? Как нам убить его?"
И вышел вперед поэт, чьи строфы были совершенны, а образы блистательны. Худ он был и манерен, и довелось ему придумать правильный путь. Как создать красоту из уродства, добро из зла.
Установили они добрый столб. Ровный и стройный, вознесся он к четырем лунам. И привязали Человека к столбу, и обложили хворостом. И подожгли.
И смотрели, как он горит.
И вновь было плохо.
Ибо Человек имел пыльные глаза, а пыльные глаза видели то, чего не увидеть, и душа его была нежной и больной душою мечтателя.
Хватало у него наглости плакать и кричать, покуда горел он, и стенать: "Не убивайте меня. Не убивайте! Так многого я не увидел, так многого не узнал". Он просил и умоляли взывал о знаниях и видениях, на которые ему уже не взглянуть.