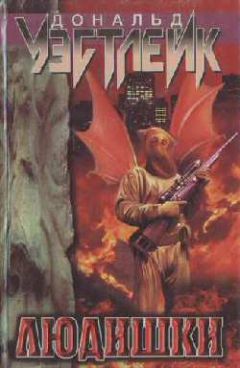«Очень сильно», сказал он об автопортрете. «Остальное», и он махнул на рисунки таракана, «хорошие наброски. Но в этом есть истина.»
Вместо того, чтобы продемонстрировать повышенный стоицизм, который каторжники имеют тенденцию принимать на себя, когда желают показать, что их не надо эмоционально поощрять, я отреагировал, как заключенный в одном из тех кинофильмов, что сформировали мои ожидания от тюрьмы, и сказал с мальчишеским изумлением: «Да… вы так думаете?», намереваясь этим поерошить чувствительность помощника Ристелли из заключенных, толстого байкера с лошадиным хвостом по имени Мэрион Трусдейл, он же Свинина, чьи руки были изрисованы синими цирковыми фигурами, наиболее бросалась в глаза пышная нагая женщина с головой демона, и чья работа в классе, хотя и компетентная, имела тенденцию вторично отражать фантастический мир его нательного искусства. Во взгляде, которым мы обменялись тогда, было все, что мне надо было узнать о ситуации: Свинина сказал этим взглядом, что он застолбил Ристелли, что я должен на хуй отвалить. Но вместо того, чтобы учесть предупреждение, я сосредоточился на том, чтобы стать ученичком-звездой Ристелли, золотым яблочком в бочке гнилых. В течении следующих месяцев, посвятив себя совершенствованию своего дара, я добился успеха до такой степени, что он начал оставлять меня после занятий поговорить, пока Свинина — его гнев начинал бродить — очищал палитренные скребки и кисти.
Большая часть того, что я говорил Ристелли в это время, было предназначено убедить его в моих лишениях, в отсутствии стимуляции, что нейтрализует мой артистический дух, и все это с прицелом убедить его пронести для меня небольшую контрабанду. Хотя он и симпатизировал моим жалобам, он не подавал никакого вида, что созрел для надувательства. Он часто сворачивал разговор в теоретическом или философском направлении, и не только на то, что связано исключительно с искусством. Он, похоже, смотрел на самого себя, как на моего ментора и пытался подготовить для меня неопределенное будущее, в котором я буду жить, если не полностью свободным, то по крайней мере не связанным духовными узами. Как-то раз, когда я мимоходом описывал себя, как живущего за пределами закона, он сказал: «Это совсем не так. Преступник находится абсолютно в самом сердце закона.»
Он промостился на уголке старого исцарапанного стола, затиснутого в угол художественной комнаты, почти скрытый прислоненными сложенными мольбертами, а я сидел, вытянув ноги, на складном стуле у противоположной стены, покуривая одну из «Кэмел» Ристелли. Свинина стоял у раковины, прополаскивая кисти в льняном масле, сгорбив плечи, излучая враждебность, как надутый ребенок, лишенный компании взрослых.
«Потому что мы внутри тюрьмы?», спросил я. «Это ты хочешь сказать?»
«Я говорю о преступниках, а не просто о заключенных», сказал Ристелли. «Преступник — это фундамент закона. Его вдохновитель, его оправдание. И в конечном счете, разумеется, его жертва. По крайней мере в глазах общества.»
«А какими, к черту, еще глазами можно на это смотреть?»
«Некоторые могут смотреть на заключение, как на возможность научиться преступным умениям. Наверное, им лучше было бы находиться где-то в другом месте, но они в тюрьме, поэтому пользуются возможностью. Но только частично. Они не понимают истинной природы этой возможности.»
Я почти попросил объяснить его последнее заявление, но Свинина выбрал момент, чтобы спросить Ристелли, надо ли натянуть холсты.
Ристелли сказал: «Хорош на сегодня. Увидимся на следующей неделе.»
Нацелив суровый взгляд в моем направлении, Свинина сказал: «Ага… хорошо», и затопал в коридор.
«Преступник и все, что он символизирует…», продолжил Ристелли. «Зверство. Безумие. Непредсказуемость. Он — причина существования общества. Поэтому тюремная система — это центральный элемент общества. Его определяющая парадигма. Его модель.» Он выстучал сигарету из пачки и помахал ею. «Кто здесь директор?»
«В Вейквилле? Хуев начальник тюрьмы.»
«Начальник!» Ристелли усмехнулся. «Он с охранниками здесь, чтобы справляться с чрезвычайными ситуациями. Чтобы поддерживать порядок. Они напоминают правительство. Только у них гораздо меньше контрольных функций, чем у президента с конгрессом. Ни налогов, ни директив. Вообще ничего. Им все равно, что вы делаете, пока вы делаете это втихую. Именно преступники день за днем правят тюрьмами. И есть такие, кто думает, что человек свободнее в ней, нежели в мире.»
«Ты говоришь, как старый пожизненник.»
Смущенный Ристелли вытащил сигарету из губ и пустил дым изо рта и ноздрей.
«Но ни хуя ты об этом не знаешь», сказал я. «Ты — свободный.»
«Ты меня не слушаешь.»
«Я знаю, что должен хвататься за каждое твое проклятое слово. Но просто, понимаешь, иногда оно задевает слишком глубоко.» Я стряхнул пепел с кончика Кэмел и спрятал окурок в карман. «Как насчет смертного приговора, старик? Если мы всем заправляем, как мы позволяем им делать такое дерьмо?»
«Убийцы и невинные», ответил Ристелли. «Система не терпит ни тех, ни других.»
Похоже, я понял, но не хотел показать, что ристеллиева чепуха проняла меня, и вместо того, чтобы дальше исследовать вопрос, я сказал ему, что у меня дела и вернулся в свою камеру.
Я работал над серией портретов углем и пастелью, запечатлявших моих приятелей по классу в созерцательных позах, их зверские лица преображены рассмотрением каких-то проблем живописи, и на следующую неделю после занятий, когда Ристелли осматривал мой прогресс, он обратил внимание на то, что я не стал включать в рисунок их татуировки. Руки и шеи обвитые браслетами из колючей проволоки, зигзаги молний, свастики, драконы, мадонны, черепа; лица с вытравленными надписями готикой и плачущие черными слезами в моих картинах все они отсутствовали, мускулы очищены, чтобы не отвлекать от жульнической святости, которую я пытался передать. Ристелли спросил, чего именно я хотел этим выразить, и я ответил: «Это шутка, старик. Я превратил этих уродов в философов-королей.»
«Короли тоже носят татуировки. Например, на Самоа.»
«Да ради бога.»
«Тебе не нравятся татуировки?»
«Лучше я вставлю косточку в нос.»
Ристелли начал расстегивать рубашку: «Посмотрим, что ты скажешь об этой.»
«Да все окей», сказал я, подозревая теперь, что интерес Ристелли к моему таланту был прелюдией к гомосексуальному соблазнению; но он уже обнажил костлявую грудь. Прямо над правым соском, слегка не по центру, светилось раскаленное валентиново сердце, бледно-розовое с золотым транспарантом, соединенным с его остроконечным основанием, а на транспаранте выколоты темно-синие слова: Сердце Закона. Цвета были такие мягкие и чистые, дизайн так прост, что казалось — несмотря на контраст с бледной кожей Ристелли — это природная штука, словно случай превратил врожденные пятна в имеющую смысл картинку; но в тот момент я меньше думал о художественных достоинствах, чем о внутреннем ее смысле, слова напомнили мне то, что Ристелли произнес несколькими днями ранее.