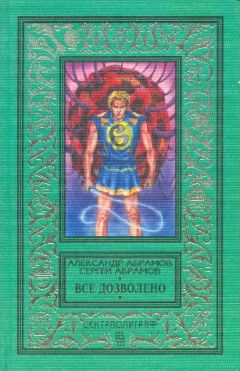— Как подскажу? А вот так… — Он подбросил на ладони что-то вроде портсигара со странным сиреневым отливом металла и какими-то кнопками на боку.
— Спасибо, — сказал я, — но я только что курил.
— Это не портсигар, — назидательно поправил Лещицкий, тут же спрятав его в карман, словно боялся, что я захочу посмотреть поближе. — Если уж сравнивать его с чем-нибудь, то, пожалуй, с часами.
— Я что-то не видел циферблата на этих часах, — съязвил я.
— Они не измеряют время, они его создают.
Его странная торжественность не переубедила меня. Все ясно: гений-одиночка, изобретатель перпетуум-мобиле, ученый-маньяк из фантастических романов Тейна. Встречался я и с такими у себя в варшавской редакции. Но Лещицкий даже не обратил внимания на мою невольную скептическую улыбку. Глядя куда-то сквозь меня, он негромко продолжал, словно размышляя вслух:
— А что мы знаем о времени? Одни считают его четвертым измерением, другие — материальной субстанцией. Смешно! Эйнштейновский парадокс и звонок будильника по утрам несовместимы. И долго еще будут несовместимы, пока время не откроет нам своих тайн: произвольно оно или упорядочено, непрерывно или скачкообразно, конечно или бесконечно. И есть ли у него начало или наше прошлое так же безгранично, как и будущее? И есть ли кванты времени, как уже есть кванты света? Здесь мы и разошлись с великим Эйнштейном, здесь споткнулся даже смелейший из смелых — Гордон: «Это слишком безумно, Лещицкий, слишком безумно для того, чтобы быть правильным».
— А не кажется ли вам, пан Казимир… — попробовал было я остановить этот малопонятный мне монолог.
Но Лещицкий тут же перебил меня, вздрогнув, как внезапно и грубо разбуженный:
— Прости, Вацек. Я забыл о тебе. Ты изучал когда-нибудь математику?
Я пролепетал что-то о логарифмах.
— Я так и думал. Ну что ж, попробую объяснить в этих пределах. Мы слишком упрощенно представляем себе физическую сущность пространства — времени. Оно более многообразно, чем нам кажется. Если цепь событий во времени не только в мире, но и в жизни каждого индивидуума изобразить некоей условной линией в четырехмерном пространстве, то в каждой ее точке будут ветвиться и события, и время, изменяясь и варьируясь по бесконечно разнообразным путям, и в каждой точке этих ветвей будут ветвиться иначе, и так далее без конца. Это как дерево, Вацек: кто знает, в какую ветку придет капля сока, подымающаяся из земли?
— Значит, жертва может уйти от убийцы, а полководец от поражения, если вовремя свернуть по другой ветке времени? Вы шутите, пан Лещицкий.
Я все еще не мог подобрать нужный тон для этого разговора. Но Лещицкий не шутил.
— Бесспорно, — подтвердил он. — Надо только найти точку поворота.
— А кто ж это может?
— Немножко я. Интересуешься, почему я?
— Нет. Почему немножко?
— Перестройка времени даже в масштабе года сложный процесс. Нужны большие мощности. Миллиарды киловатт. А я работал как алхимик, как тот ученый псих-одиночка, о котором ты, вероятно, подумал. Вот и создал пока только селектор. Название, конечно, приблизительное. Но у прибора избирательная направленность: он выбирает вектор, тот поворот времени, где уже другая система отсчета. Мощность его не более часа, иногда даже меньше, в зависимости от напряженности твоего времени. На эту напряженность рассчитана и настройка: селектор может выбрать из всех вариантов твоего ближайшего будущего самые напряженные четверть часа. Или полчаса, даже час…
— А дальше?
— Ты возвращаешься к исходной точке. На большее мощность прибора не рассчитана. Конечно, при наличии средств и возможностей, какими обладает, скажем, ядерная физика, я мог бы перестроить время в масштабе столетий. Но кто даст мне эти средства? Пентагон, пожалуй, даст. Гитлер отдал бы половину Европы за эту возможность в сорок третьем году. А когда это поймут Рокфеллеры, я стану богом. Но тут я честно говорю: «Нет!» — и закрываю лавочку. Человечество еще не выросло, чтобы получать такие подарки.
— Есть же социалистические страны, — сказал я.
— Зачем же им перестраивать будущее? Они сами строят его, исходя из разумных предпосылок настоящего.
— Ну, а интересы науки? — Я старался как-то утешить его.
— Нынче они сродни интересам коммерции. Представь себе рекламочку: «Параллельное время! Все варианты будущего! Возвращение гарантировано». Нет уж, моделируйте сами. Не для этого я десять лет просидел в научном подполье.
Я молчал. Энтони за стойкой листал журнал. Девушки, ужинавшие за портьерой, давно ушли. Какой-то пьяница, заглянувший с улицы, заиграл на губной гармошке — не песенку, не мелодию даже, просто гамму. Он повторял ее опять и опять, пока Энтони не закричал, что здесь не «Карнеги-холл», а драг-сода. Гамма умолкла.
— Как-то великий Стоковский сравнил гамму с лесенкой, по которой взбирается звук-хамелеон, — сказал Лещицкий. — Пожалуй, я могу смоделировать ближайшие полчаса по шкале гаммы. Идет?
— Лучше не надо, — попросил я. — Да и что может случиться в ближайшие полчаса?
Он не ответил. Мы вышли молча: я — с тайным намерением отделаться от него поскорее, он — с непонятной суровостью, сомкнувшей его тонкие, почти бесцветные губы. Мистификатор или маньяк? Скорее последнее. Тихое помешательство, вероятно.
Дождь настиг нас минут через десять, причем с такой свирепостью, что мы едва успели добежать до навеса над каменной лестницей, спускавшейся в полуподвальную овощную лавку.
Лещицкий почему-то держал в руке свой псевдопортсигар в сиреневой оболочке, потом, словно спохватившись, снова убрал его. Мне показалось, что в нем что-то щелкнуло, а в пучке света от уличного фонаря косые струи дождя вдруг странно удвоились.
Я взглянул на ручные часы — без пяти десять — и тотчас же по привычке приложил их к уху: идут.
— И дождь идет, — глухо проговорил Лещицкий, — а такси нет.
— Что-то есть, — сказал я, вглядываясь в дождливую мглу.
Два снопа света пронзили ее из-за угла. Фары принадлежали автомобилю ярко-желтого цвета.
— Эй! — крикнул я, высовываясь из-под навеса. — Сюда!
— Это не такси, — сказал Лещицкий.
Но автомобиль притормозил и медленно двинулся вдоль тротуара. Он не остановился, только чуть опустилось дверное стекло, и в образовавшейся щели на свету блеснуло черное вороненое дуло.
— Ложись! — шепнул Лещицкий и рванул меня вниз.
Но поздно. Две автоматные очереди оказались быстрее. Меня что-то сильно ударило в грудь и в плечо, опрокинув на камень. Лещицкий, странно перегнувшись, медленно оседал, словно сопротивлялись несгибавшиеся суставы. Последнее, что я увидел, было красное пенящееся пятно у него на лице вместо рта.