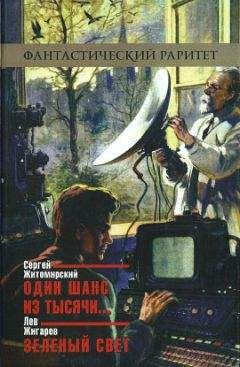Я хлопнул два раза веками.
- Отлично! Через месяц вы пойдете домой. Мои ассистенты дали клятву молчать обо всем, что произошло, иначе вас казнят, а я не смогу проверить, все ли пойдет как надо и дальше. Старайтесь не огорчать маму. Я скажу, что после операции у вас потеря памяти... Кто там? Входите! Вот труп вашего "артиста".
Тяжелые ботинки затопали по кабинету. Полиция? Я инстинктивно дернулся и снова потерял сознание.
Когда вы пришли за мной и я оперся на вашу тонкую, крепкую руку, я думал только об одном: уйти. Я не верил, что мои пальцы, много раз отпечатанные в черных папках сыскного бюро, мои усики, запечатленные во всех поворотах на фотографиях в тех же папках, зарыты а яму тюремного кладбища. Это был еще один побег, пусть и не такой, как другие. Преступник сменил не костюм, тело...
"Надо скрыться!" - вот о чем я думал, когда мы шли к старенькому, канареечного цвета такси. Я даже не разглядел вас как следует. И потом, когда вы уложили меня в кровать в маленькой комнате, где было столько книг, я представлял себе широко раскрытые глаза рыжего Майкла:
- А ведь молодчина Билл, - сказал бы он, - ну уж так сбежать - прямо от стула!
А вы поверили доктору Лейстеру, только глаза ваши наполнились слезами, и вы прятали их, когда, помните, я не узнал в высоком старике своего отца.
Так неумело хитря, вы старались рассказать мне обо всем, что меня окружало, что бесследно ушло вместе с прежним мозгом. Я узнал, что мой отец-учитель, что в школе попечители не любят его и считают красным, а дети влюблены в него. Вы рассказывали мне о друзьях, о моем детстве и только о себе ничего не рассказывали. Однажды вы назвали имя Эллен, и в ваших глазах я снова увидел испуг.
"Ага, - подумал я, - у этого парня есть, видно, неплохая девчонка. Надо учесть, когда встану".
Потом я встал, взял тайком ваши серьги из шкафа и, помните, пропил. И вы опять уложили меня в кровать. Покорная скорбь была в ваших глазах, и если бы я тогда ударил вас тяжелым утюгом, - а такая мысль была у меня, то вы, верно, умерли бы, виня только себя, что недоглядели за тяжело больным сыном.
Нам не дано видеть, что делается с нами, как мы изменяемся: приходится узнавать это только по тому, как в наших глазах меняются другие люди. Как-то я вышел в столовую, где собрались друзья отца и вы, сидя в углу, вязали чулок. Я послушал не совсем понятные мне разговоры о политике, о детях. Тогда мне в первый раз не захотелось видеть скользкие глазки ангела Боба и выслушивать его очередную пакость. От нечего делать я залез в книги вашего сына, словари тут же бросил, но мне попалась толстая книга о Китае на английском, - я читал не отрываясь. И вы заметили это, вы принесли толстый том, который открывался сзади, а самый текст в нем был столбиками узорных клеточек.
Вы рассказывали мне сказки из этой книги, которые, видно, слышали от сына раньше, старинные мудрые сказки китайцев, и мне захотелось выучить эти знаки. Я испытал странную радость, когда разобрал одну колонку, и вдруг слезы навернулись мне на глаза: это была старинная книга о медицине, а не сказки. Она увлекла меня.
Как-то я встретил на улице рыжего Майкла и невольно окликнул его. Он взглянул на меня и юркнул в подворотню. Эллен, - а тогда мы уже ходили вместе на лекции в рабочий клуб, - посмотрела удивленно и робко сжала мне руку. Ей показалось, что последствия удара снова помрачили мой рассудок. А ведь она знала вашего сына совсем мало, месяц или полтора до его смерти... Какого же славного человека вы сумели воспитать, мама, и как тогда мне захотелось вам его по-настоящему заменить!
И вот я уезжаю, увожу с собой диплом специалиста и нерадостные воспоминания о своей родине. Доктор Лейстер - недавно писали, что он умер, - подарил мне жизнь и чужое тело, но вы подарили мне веру в людей - самое дорогое на свете. Почему я не остался с вами после того, как прожил эти четыре года? Наверное, потому, что не мог бы лгать вам дальше, а как можно было бы рассказать вам все это?
Я, наверное, не отправлю вам это письмо. Думайте и дальше, что я настоящий ваш сын. Мне так хочется им стать!