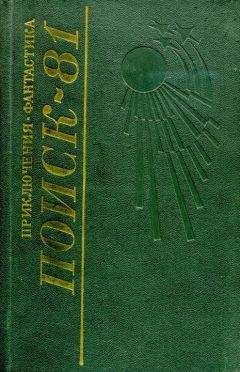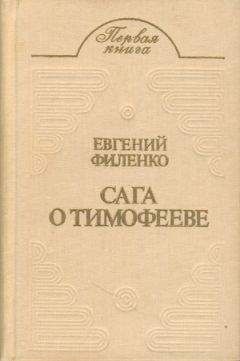Федоров осторожно убрал фуражку.
«Лет двадцати, не больше», — подумал Рысин, глядя на перепачканный землей лоб убитого и стараясь не задеть взглядом его запекшихся губ.
И тут же явилась мысль: «Почему лицо в земле, если он на спине лежал?»
— Совсем еще мальчик, — сказал Федоров.
Они вдвоем перевернули тело — под левой лопаткой сукно тужурки было разорвано пулей. Рысин нечаянно коснулся поверхности стола и тут же отдернул руку. Дерево липло к пальцам.
Он отошел, сел.
Ему никогда не приходилось заниматься расследованием убийств — для этого существовала полиция. О громких преступлениях он узнавал из газет. Несколько раз даже писал письма следователям, излагая свои соображения, и радовался, когда они подтверждались в ходе процесса. Убийство было для него не поступком, а ходом игрока, преследующего определенную цель. Случайностей здесь не было, вернее, они его не интересовали. Чья-то смерть была конечным итогом одной комбинации и началом другой, а срубленная фигура убиралась с доски для того, чтобы появиться в новой партии с новым игроком. Но сейчас, в сумеречном университетском подвале, на окраине города, живущего слухами, страхами и надеждами, под взглядом мертвого императора, он впервые подумал о смерти как о чем-то таком, что само по себе отрицало всесилие логики и разума. Он всегда верил в логику мелочей, но теперь наступали такие времена, когда мелочи теряли привычный житейский смысл. Не только люди, вещи начинали вести себя по-другому.
— Гражданская война ведет к падению нравственности. — Федоров вновь прикрыл фуражкой лицо убитого студента. — Вот что всего печальнее!
Рысин промолчал.
Чтобы отвлечься, он попытался сосредоточить мысли на своей догадке. Для подтверждения ее вовсе не нужно было подниматься в кабинет Желоховцева, он и без того помнил расположение царапин на полу. Собственно, царапина была одна, поскольку двигали лишь один конец шкафа — правый со стороны кабинета и левый со стороны аудитории номер семнадцать. А это свидетельствовало о том, что человек, проникший в кабинет, был левша. Такое предположение тем более казалось вероятным, что с другой стороны шкаф двигать было гораздо удобнее — там он выдавался за косяк всего вершка на два.
— Давайте уйдем отсюда. — Рысин поднялся. — С хозяином квартиры я побеседую наверху. А вы, когда сможете, извлечете пулю и принесете мне ее в комендатуру вместе с медицинским заключением.
Ему хотелось отыскать Желоховцева, расспросить обо всем. Теперь, когда о Трофимове кое-что было известно, он мог себе это позволить. И уж совсем неизвестно почему, без всякой логики, всплывала мысль: «А не связана ли эта смерть с похищением коллекции?» Он сразу понял, что в таком предположении нет никакой логики обстоятельств, но тем не менее не отказался от него тут же, и одно это было уже странно.
— Что стоят наши лозунги, — без всякой логики отвечал Федоров, продолжая, по-видимому, нить собственных размышлений. — Мы провозглашаем: вперед, к Учредительному собранию! А на всякий случай держим в запасе вот это, — он кивнул на портрет Николая.
— Близ царя — близ смерти, — сказал Рысин.
— Что-что? — не понял Федоров.
— Ничего… Поговорка есть такая.
Они вышли в вестибюль.
Навстречу спускался со второго этажа Желоховцев. Он шел медленно, сутулясь, и рука его не скользила по перилам, а передвигалась по ним рывками, отставая от движения тела.
«Уже знает», — догадался Рысин.
— У меня к вам один вопрос, профессор!
Желоховцев со скрипом передвинул по перилам руку, остановился. Рысин механически отметил: «Ладонь потная, потому и скрипит…»
— Опять вы? — удивился Желоховцев.
— Я понимаю ваше состояние. Но мне необходимо выяснить одну подробность… Скажите, Трофимов — левша?
— Не помню…
— Среди ваших сотрудников или студентов есть левша?
Не отвечая, Желоховцев двинулся к подвалу.
Рысин догнал его, тронул за плечо:
— Поверьте, это очень важно!
Желоховцев обернулся и тихо, с какой-то странной ритмичностью, словно произносимые им слова были цитатой из латинского классика, проговорил:
— А подите вы к черту, молодой человек!
10Что-то будет?
Стучит, заходится в штабе генерала Зеневича юзовский аппарат. Ползет, скручиваясь, лента, ложится на пол рождественским серпантином.
Полуприкрыв глаза, слушает генерал бесстрастный голос телеграфиста. Начальник штаба стоит у настенной карты с карандашом в руке. От бессонницы посерели лица, красными ободками обведены припухшие веки. Все ближе и ближе к городу клубится на карте месиво кривых стрелок, треугольничков с флажками, зубчатых полуколесиков, обозначающих занятые рубежи.
Поблескивает на столе банка английских консервированных макарон. Хлеб лежит на тарелке, а рядом оплывает, желтеет по краям шмат сала.
Генерал Зеневич слушает сводку и вдруг кричит вошедшему адъютанту:
— Вы забываетесь!
Адъютант смотрит на корпусного командира, лоб его собирается морщинами.
— Это штаб корпуса! — кричит генерал. — А вы входите сюда, не потрудившись обтереть ног, как в конюшню!
Адъютант круто разворачивается на каблуках, и в эту минуту на сорок девятой версте от города — направление северо-запад — случайный осколок задевает телеграфный провод. Со звенящим шорохом скользит по траве проволока, распадается мир, и в штабе генерала Зеневича умолкает юзовский аппарат.
Через несколько минут двое вестовых мчатся верхами от штаба к железнодорожной станции. Редкие прохожие смотрят, как разбрызгивают кони просыхающие лужи на мостовой, и душа замирает от бешеного их галопа.
Куда? Зачем?
Была жизнь как жизнь, а теперь неизвестно что. Еще висят на заборах приказы, шагают патрули, барышни в бело-зеленых шарфиках стучат на своих «ремингтонах», а майор Финчкок, как новый Честерфилд, пишет письмо сыну о том, каким должен быть настоящий мужчина.
Но уже ползут от госпиталей к вокзалу санитарные фуры, ночами постреливают на улицах, и хозяева с пяти часов вечера закладывают железными штырями оконные ставни — не власть, не безвластье.
Генерал Зеневич подходит к окну. Курчавое азиатское облако плывет над городом.
Тишина.
11После встречи с Якубовым Костя остерегался появляться в университете и решил зайти к Желоховцеву домой. Около двух Григорий Анемподистович всегда приходил домой обедать. У него был больной желудок, и ел он только то, что готовила Франциска Андреевна. Готовила она лихо, не жалея соли, перца и уксуса, однако ее воспитанник утверждал, будто в домашних условиях все эти специи для него совершенно безвредны.