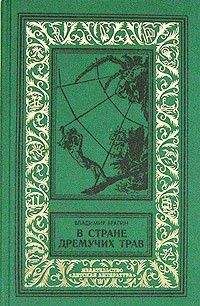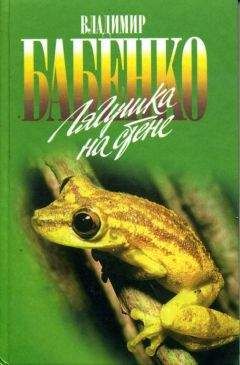Итак, Дарвин и Фабр намечают одну цель, объединяются в одной задаче: сбить с толку пчелу. Дарвин и Фабр в сговоре против пчелы.
Фабр старательно готовится.
Он организует своеобразную колонию земляных пчел. Для лучшего выполнения задачи устраивает специальный хитрый снаряд.
Пчелы помечены краской. Поместив пчел в наглухо закрытую трубку, Фабр уходил с ней все дальше и дальше от их гнезда.
В самых неожиданных местах он кружит, петляет и вертит закрытую трубку, где помещены пчелы. Затем он открывает ее.
Пчелы выпущены на свободу. И они находят правильный путь, благополучно возвращаются домой. Правда, не все, но большинство.
Тогда Фабр задумывает другую операцию: уже не в открытой местности, а в самых сложных природных условиях — в густом лесу, среди зарослей и оврагов.
Результат тот же! Пчелы опять перехитрили Дарвина и Фабра: они находят путь в свое жилье.
Итак, Фабр убедился, что пчелы обладают чувством направления. Один из вечеров своей жизни Фабр называет «памятным».
В этот день, 6 мая, у него в кабинете вышла из кокона самка бабочки сатурнии плодовой, или большого ночного павлиньего глаза.
Кабинет Фабра превратился, как он рассказывает, в «пещеру колдуна»: в темную ночь, в бурю, в непогоду, сквозь чащу леса сюда прилетали бабочки-самцы. Они бились в окна, в двери, заполняли комнаты. Все летели, летели сюда!
Фабр ставит опыт с бабочкой дубовым шелкопрядом и убеждается, что бабочки обладают таким обонянием, которое совершенно безошибочно — за десятки километров! — ведет их к цели.
Тогда Фабр вот что придумал: он прячет самку. Но самцы летят к тому самому месту, где она раньше сидела, то есть туда, где сохранился ее запах.
Я сдал книги. Но, вызывая легкое недоумение библиотекаря, остался сидеть в прохладном, тихом читальном зале, где теперь в полдень даже летнее жаркое солнце, пробившись сквозь густую зелень деревьев и путаясь в занавесках, с некоторой нерешительностью бросало свои лучи на цветы в горшках, на книги, на людей. Мысли мои шли в одном направлении.
По подсказу Дарвина, Фабр обнаружил безошибочное чувство направления у некоторых насекомых. Пчела как будто перехитрила и Дарвина и натуралиста Фабра. Здесь своеобразное проявление инстинкта. И еще Фабр предположил, что какой-то очень тонкий запах, совершенно неуловимый для нашего обоняния, зовет бабочек-самцов сквозь бурю, непогоду, в темную ночь к самке.
Нет, не только к самке, но и к тому предмету, который пропитается ее неуловимым для людей запахом.
Я думал: «Можно ли сомневаться, что путем сложных анализов будет получен состав, привлекающий бабочек за десятки кубометров? Разве не могу я допустить, что эти бабочки — дубовые шелкопряды и сатурнии — могут стать еще более верными письмоносцами, чем почтовые голуби?»
Неоспоримо: бабочки всегда летят на свет. Тут я вспомнил другие сохранившиеся слова из обгорелой записки Думчева: «Прошу Вас, зажигайте мою лампу с рефлектором».
В лаборатории, у самого окна, выходящего на запад, на деревянной подножке стояла лампа. Ее зажигали, и бабочки летели на свет.
Можно ли к спинке бабочки привязать ниточкой одну из тех странных крошечных записочек, которые случайно оказались у меня? Безусловно! И, видно, много, очень много таких крошечных записок посылал Думчев на свет лампы с рефлектором, которую он просил зажигать в своей лаборатории. Живые письмоносцы прилетали и приносили записки. Но Полина Александровна и не догадывалась об этих письмах. Теперь эти письма лежат, покрытые толстым слоем пыли.
Забытые в пыли письмоносцы, когда-то трепетно порхавшие по лаборатории со своими письмами, теперь они мертвы! И письма, записки, написанные теплой рукой человека, никем еще не прочитанные, ждут, хотят сообщить о судьбе отправителя.
Я мчался по улицам городка — туда, в лабораторию. Было шумно. Жарко. Ярко. А мне чудился ночной поезд, луна, и я вновь слышал покашливающий, старческий голос, рассказывавший об исчезновении странного доктора. Я видел перед собой человека, которого преследуют. Он торопится, оставляет дом и не может или боится ясно и просто рассказать, как его спасти, как услышать его издалека. Он пишет записку. Но просьбу выполнить не смогли: запиской разожгли самовар.
Скорее, скорее!.. Еще несколько минут — и под стареньким микроскопом в лаборатории оживет и развернется предо мной подлинная история исчезновения Думчева. Я пойду по следам, почти занесенным пылью годов. Но будет найдена и прочтена вся летопись научных открытий Думчева — летопись, коротенькие отрывки которой я случайно нашел. Скорее, скорее!..
«Поаккуратней, гражданин!»
Я спешил в лабораторию и думал: как жаль — у меня не хватает времени забежать сейчас к профессору Тарасевичу и рассказать ему обо всем. После того как побывал в лаборатории, я уже несколько раз заходил в институт, но все не заставал. Мне говорили: «Директор по делам ремонта института бывает в разных учреждениях, и его трудно застать на месте». Но вот удача! Свернул на бульвар и столкнулся с профессором Тарасевичем. Мне показалось, что он посмотрел на меня отсутствующим взглядом и ответил на поклон совершенно машинально.
— Думчев! Доктор Думчев жил в вашем Ченске! — сказал я, останавливая Степана Егоровича.
— Думчев? Какой Думчев? О ком вы говорите?
— Я говорю о том Думчеве, который писал микрозаписки. А мы их считали шуткой и чьей-то потехой!
И сразу же испарились уравновешенность, спокойствие и выдержка профессора Тарасевича.
С волнением и нетерпением, подгоняя самого себя, стал я рассказывать все, что случайно и не случайно узнал, открыл и нашел в эти дни.
— И вот теперь, — заключил я, — надо спешить в лабораторию, чтобы прочесть всю историю Думчева, присланную им в записках на крыльях бабочек.
— Все верно! — воскликнул Тарасевич. — Ведь записочки, которые мы прочли под микроскопом, действительно очень легко привязать ниточкой к телу насекомого и переслать по надлежащему адресу. Прибегают к микрофотографированию. И это не ново. Когда в семидесятых годах прошлого столетия Париж был в осаде, французский фотограф Дагрон предложил вести переписку с осажденным городом при помощи микрофотографии. Текст письма, депеши, донесения фотоаппарат уменьшал до такого размера, что они вкладывались в зубочистку. И почтовый голубь, к крылу которого привязывали зубочистку с донесением, приносил микрописьмо в осажденный город. Там его прочитывали — проектировали на большой экран. Вы говорите, что в обгорелой записке предлагалось станин, рефлектор. Это — световое раздражение: насекомые летели па свет в лабораторию. Но жаль, что записка обгорела. Ведь, может быть, там были указаны и другие способы привлечения насекомых на другие адреса. Вот, например, бабочка-адмирал, или Ванесса атланта, питает страсть к бродящему березовому соку. Она чует его па очень далеком расстоянии. Помню, и был еще студентом и па практике проверял остроту обоняния у бабочек. Увидев, как «адмиралы» слетались к березе и погружали свои хоботки в трещину древесной коры, я стал мазать забродившим березовым соком деревце молодого тополя. И что же вы думаете? Бабочка-адмирал летела на тополь и льнула к его коре. Однажды я вытер тряпочкой березу. Иду с тряпкой, а за мной бабочки летят. А вот бабочку-траурницу я часто находил на полусгнившем барабане у колодца: дощечки были там гнилые, поросли зеленым мхом. Взял я однажды несколько гнилушек, намочил в кадке и хорошенько спрятал. Смотрю: летит траурница прямо к моим гнилушкам, спрятанным в укромном уголке.