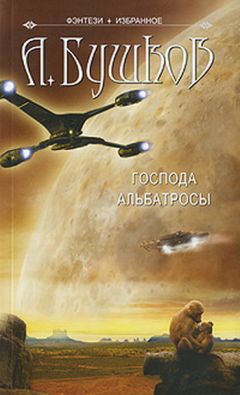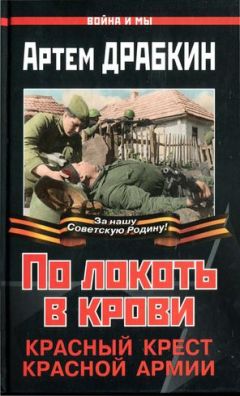Стекла задребезжали, одно звонко лопнуло — над самыми крышами пронесся истребитель, и засверкали зеленые сполохи лазерных пушек. Спустя некоторое время в небе блеснул огненный шар, и рев турбины перешел в несущийся к земле надрывный вопль, жалобный вой. Невдалеке громыхнул взрыв, взлетел грибообразный столб дымно-желтого пламени.
Над Поселком завывали новые истребители, хлеща воздушной волной по крышам. Еще один самолет упал и взорвался где-то у леса, и Панарин увидел, как квадраты вереницей, с адской скоростью уносятся к горам, в направлении Вундерланда. Тогда он побежал открыто, не таясь уже.
Клементина сидела в шезлонге у крыльца, откинув голову на спинку, почти как давеча в машине, но на этот раз поза была деревянной, мертвой, скованной. Еще не веря, Панарин наклонился над ней, увидел в ее широко раскрытых неподвижных глазах отражение себя и полыхавшего соседнего коттеджа. Ее пульс не прощупывался, сердце не билось.
Рыча что-то невнятное, Панарин подхватил ее на руки и побежал в сторону клиники. Трезвый островок рассудка доказывал, что против ударов Вундерланда не бывает лекарств и лекарей, волны эмоций захлестывали островок, но островок не сдавался, мало того, напомнил вдобавок, что первый удар последовал самое большее через полминуты после того, как профессор Пастраго вышел из бара на площадь.
Задохнувшись, Панарин невольно перешел на шаг. Площадь была ярко освещена, и не только фонарями — в нескольких местах трещали пожары — и Панарин издали увидел запрокинутое горбоносое лицо с ассирийской бородищей. Пастраго лежал навзничь посреди площади, у самого постамента Изобретателя Колеса, гитара валялась рядом, блики плясали на барбадосском ордене. Панарин осторожно опустил Клементину рядом с профессором, сел на холодный асфальт и завыл без слез.
Здесь на него и наткнулась машина «скорой помощи». Дальнейшее виделось словно сквозь густой туман — кажется, он долго не отдавал Клементину и Пастраго, кричал, что они живы, что им нужно полежать немного на свежем воздухе и все обойдется. Его то ли уговорили, то ли вырубили с большим знанием анатомии. Провал в памяти — и он уже рвался в дирекцию к Адамяну, размахивал разряженным пистолетом, отшвыривал осторожно оттиравших его от входа безопасников. Второй провал — и он уже сидел на влажной земле на окраине Поселка, а совсем рядом уродливым грибом бугрилась лачуга Шалыгана. Окно светилось. Противно визгнула дверь, вышел Шалыган и негромко позвал:
— Тим! Заходите!
Глядела с думой тяжкой
на зримые отсель
чугунную фуражку,
чугунную шинель…
С. Наровчатов
Панарин был в домике, куда мечтали заглянуть хоть одним глазком все поголовно, и он в том числе — но сейчас прежние чувства, любопытство в том числе, отодвинулись куда-то очень далеко, как в перевернутом бинокле…
Ничего здесь особенного не оказалось. Одна большая, неожиданно опрятная комната. Железная койка, высокая полка со множеством книг, еще одна, с устаревшими, чуть ли не времен Сперантьева, приборами, заваленный бумагами стол, стул. И все. Над столом две фотографии. На одной, побольше молодая, очень красивая женщина.
Другую, поменьше, Шалыган торопливо завесил полотенцем, словно зеркало в доме покойника. Жестом пригласил Панарина. Панарин сел на застеленную стареньким одеялом постель. Осмотрел себя — пуговицы на рубашке оборваны все до одной, кобура пуста, кулаки разбиты в кровь.
— Хотите спирта, Тим?
— Давайте.
Шалыган принес большую черную бутылку, налил в маленькие стаканчики из очень толстого стекла — старинные лабораторные, сообразил Панарин.
— Ну что же, за светлую память?
— А может?..
— Не терзайтесь несбыточными надеждами, Тим. Вундерланд есть Вундерланд. Так что уж лучше сразу… — Он прикрыл глаза и нараспев продекламировал:
Прощай. Поезда не приходят оттуда.
Прощай. Самолеты туда не летают.
Прощай. Никакого не сбудется чуда.
А сны только снятся нам, снятся и тают…
— Кто это? — Панарин кивнул на женский портрет.
— Жена. Она погибла.
— Как?
— Тим, нам не сообщали как… — Шалыган прищурился, и на Панарина явственно пахнуло холодом. — И не сообщали когда.
— Во-от оно что… — протянул Панарин. — Слушайте, кто вы такой, наконец? Если уж вы меня впустили, я не уйду, пока…
— Вы правильно догадались тогда, — сказал Шалыган. — Просто в то время татуировок-альбатросов не было еще. Мы носили жетоны.
Он сдернул полотенце со второй фотографии.
Молодой, не старше Панарина человек в комбинезоне устаревшего фасона улыбался, положив руку на тупорылый капот биплана. Панарин знал эту фотографию. Она была во всех посвященных Вундерланду учебниках и книгах. Один из тех, что стали легендой, едва успев возмужать, — полковник аэрологии в двадцать и генерал-лейтенант в двадцать пять, воздушный хулиган и воздушный трудяга, удачник, фаворит, лауреат и кавалер.
— Нет! — У него перехватило горло. — Быть не может! Вы — Ракитин? Так не бывает!
— Показать документы?
— Нет… но… нет… А я ведь так и не докопался, что с вами сталось, невозможно доискаться… Вы — Ракитин? Легенда? Да как это?
— Легенда и апокриф. Выпейте, Тим. Не помешает, право.
— Значит, вас тоже…
— Нет. Меня как раз нет. Как бы вам объяснить, Тим… Я сам ушел отовсюду. Я знаю людей, которые испугались тогда на время, и людей, которые испугались навсегда. Но в моем случае — не испуг. И не озлобление… а если и озлобление, то не как самый важный компонент. Понимаете, когда ЭТО началось, когда арестовали Светлану, когда стали разводить черт-те что вокруг Вундерланда, дня меня рухнул мир, в котором я жил и в который привык верить. Казалось, все кончено. Навсегда. Собственно, если разобраться, я всего-навсего вошел в транс и посейчас из него не вышел. Пожалуй, это наиболее точная формулировка.
— И появился Шалыган, — сказал Панарин. — Вы многое могли бы сделать, но предпочли разыгрывать юродивого — мелкие подачки раз в месяц… Вряд ли я имею право вас осуждать, и все же, все же… Да, другие в конце концов сделали почти все, что могли бы сделать вы, прошли почти все намеченные вами трассы, но никуда не деться от этого «почти». С вами добились бы большего. Вы не должны были так, генерал… Теперь понятно: ваша «адская проницательность» — всего лишь отблески сиявшего когда-то мозга Ракитина. В общем, я вас не осуждаю, но и оправдать не могу, Степан Михайлович. Другим пришлось и тяжелее, но они работали. Извините, я резок, но у меня только что… я… Нельзя же переносить горе и обиду за потерю любимого человека, за все вывихи на страну, систему, науку. Возможно, я не в состоянии осознать в полной мере то, что вам довелось пережить, но… Он же был не только ваш — ваш талант. Я надеюсь, вы не считаете все, что я говорю, плакатной демагогией?